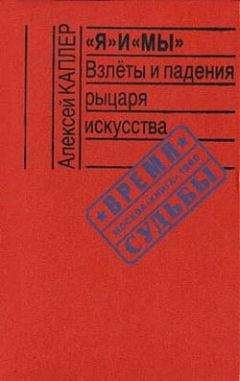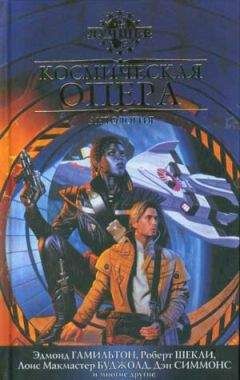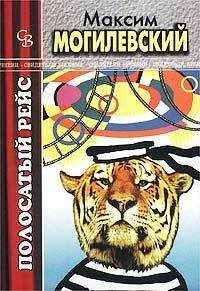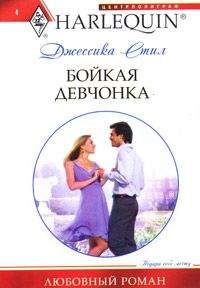— Да брось ты, — махнул рукой Туляков. — В общем, графин и закуска — чего там у вас есть?
— Икорки прикажете зернистой, семужка есть, ассорти мясное, балычок имеется…
— Значит, так, — сказал Туляков, — икру зернистую, семгу, балык…
Официант быстро записывал заказ в блокнот.
— …и прочее, — продолжал Туляков, — оставьте на кухне, — официант с недоумением посмотрел на него, — а нам несите селедки с картошкой. Договорились? Да картошки побольше.
Презрительно зачеркнув первоначальный заказ, официант исчез. Сажин развернул и осмотрел салфетку, затем стал протирать ею фужеры и рюмки.
— Узнаю, — улыбнулся Туляков, — ну и зануда ты был, честно говоря, с твоей чистотой да с первоисточниками — с Бебелем и Гегелем…
— Слушай, Сева, — сказал Сажин, — когда я выпил первый раз в жизни, то из–за этого женился. Что будет теперь? Не знаю.
Зал был заполнен декольтированными дамами — бриллианты в ушах, пальцы унизаны кольцами, на спинки кресел откинуты соболиные палантины и горностаевые боа. Столы заставлены коньяком и шампанским в ведерках со льдом, горами закусок, под горячими блюдами горели спиртовки. По залу бесшумно носились лакеи во фраках.
Графин перед друзьями быстро опустел. Туляков, мрачнея, оглядывал зал и по временам произносил свое: «Пускай гуляют…»
— Пускай гуляют, — повторил Сажин. Он жестом подозвал официанта и протянул ему графин: — Повторили! — А помнишь, Севка, тот хутор?
— Еще бы! Как дроздовцы от нас чесали! Неужели забуду… Я тогда первый раз тебя в бою увидел. Ну, думаю, очкарик дает… Вот это так комиссар…
— Было время.
— Послушай, друг, — сказал, нахмурясь, Туляков, — давай–ка я тебя отсюда уволоку? Оформим почтальоном — за это ручаюсь, — и будешь ты возить диппочту и на ночь пистолет с предохранителя… А? Да ты не отвечай. Завтра утром со мной в поезд и с полным приветом… Дело решенное!
Музыканты играли, время от времени лихо выкрикивая: «Красавица моя, скажу вам не тая, имеет потрясающий успех. Танцует как чурбан, поет как барабан, и все–таки она милее всех».
Официант быстро принес второй графин.
— Давай, Севка, за советскую власть… — Сажин налил доверху большие фужеры, выпил до дна и вместо дуэта вдруг увидел на эстраде квартет.
Сажин снял очки, и мир превратился в вертящиеся светлые и темные пятна. Надел очки — и пятна стали нэповскими рожами. Сажин вдруг встал, пошатнулся и, одернув френч, твердым шагом направился по проходу к эстраде.
— Ты куда? — испуганно вскрикнул Туляков, но Сажин продолжал идти между столиками — странный человек из другого мира.
Туляков кинулся за ним, чтобы удержать, но Сажин уже взошел на эстраду и поднял руку. Музыканты растерянно, нестройно смолкли. Публика в зале, перестав жевать, с недоумением уставилась на непонятного человека во френче, в галифе, оказавшегося на эстраде. Постояв немного и дождавшись тишины в зале, Сажин вдруг запел во весь голос, дирижируя сам себе рукой: «Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут свой сказ…»
Зал замер. Произошло нечто невероятное, неслыханное, скандальное… Минуя ступеньки, одним махом вскочил на эстраду Туляков, встал рядом с Сажиным, и они, обнявшись, стали петь вместе:
«О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы гордо, мы смело в бой идем…»
Странный человек во френче обнимал одной рукой друга, другой размахивал, дирижируя, и пел.
Музыканты — скрипач и пианист — подхватили мелодию, и теперь «Буденновская кавалерийская» уверенно понеслась над притихшим залом ресторана.
Неожиданно какой–то низенький кривоногий официант поставил на пол прямо посреди прохода блюдо, которое нес, вскочил на эстраду и, став по другую сторону рядом с Сажиным, тоже запел:
«…Веди ж, Буденный, нас смелее в бой! Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, мы — беззаветные герои все»…
Сажин и его обнял.
Подбежал метрдотель, бросился к эстраде:
— Господа, товарищи… Прошу прекратить…
Но на него не обратили никакого внимания ни поющие, ни музыканты. Песню допели. «Артисты» спустились в зал. Взбешенный метр набросился на официанта:
— Как вы смели! Завтра же я вас уволю!
Но маленький официант только рассмеялся:
— Да я сейчас сам уйду.
— Позвольте, Лапиков, у вас же шесть столов. Официант сунул ему в руку салфетку.
— Сам их и обслуживай. Меня нет дома, — и, прихватив по пути бутылку водки со стола, догнал друзей.
Они вышли втроем на пустынный бульвар, хлебнули по очереди из бутылки и пошли дальше — один в шинели, Другой с заграничным пальто в руке и в шляпе, сдвинутой далеко на затылок, третий во фраке. Шли и пели: «Никто пути пройденного у нас не отберет…»
Туляков сделал предостерегающий жест и приложил палец к губам — впереди показалась фигура милиционера. Замолчав, тройка прошла мимо строгой фигуры, стараясь шагать твердо и прямо. Но, зайдя за угол, снова загорланили песню, начав с первых строк: «Мы красные кавалеристы, и про нас…»
— Не забудь, — наклоняясь к Сажину, сказал Туляков, — поезд ровно в десять. Билета не нужно, у меня купе служебное… Не опоздай…
— Буду как штык, — ответил Сажин и подхватил со всеми вместе: «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы гордо, мы смело в бой идем…»
…Рано утром в Посредрабисе было пусто. Сажин сидел за своим столом. Закончив письмо, он подписал его, вложил в конверт и надписал: «Окружком ВКП(б) тов. Глушко». Заклеил, оставив письмо на столе. Положил ключи на сейф.
Встал, медленно прошел по залу, остановился у стенной газеты. Исправил орфографическую ошибку в передовой статье. Осмотрелся. Пошел к выходу.
…На перроне Сажин появился с чемоданом. Туляков издали замахал рукой, увидев его. У вагонов люди прощались, целовались, что–то говорили друг другу. Кто–то смеялся, кто–то плакал. Кто–то играл на гармошке. Из игрушечного вагончика дачного поезда, что остановился против московского, выходили музыканты со своими трубами, басами, скрипками и тромбонами. Маленький человечек легко нес огромный контрабас и о чем–то спорил с барабанщиком. Заметив Сажина, замахал рукой скрипач, так поразивший его когда–то в городском саду.
К вагону Тулякова Сажин подошел, когда прозвучал второй звонок. «Бом! Бом!»
— Ты, как всегда, впритирку, — встретил его Туляков, — давай чемодан. — Он передал чемодан проводнику, и тот внес его в вагон.
Музыканты шли мимо, и барабанщик, проходя за спиной Сажина, легонько ударил колотушкой в барабан. Сажин оглянулся, улыбнулся ему.
— Молодец, что решился, — сказал Туляков Сажину, — так и надо — рубить сплеча. Молодец. Не пожалеешь. Ну, давай садиться, пора…
Сажин, однако, медлил. Раздался третий звонок. «Бом! Бом! Бом!»
Туляков поднялся на площадку.
— Давай, Сажин, давай!..
Сажин засунул руки в карманы шинели и сказал:
— Я не поеду, Сева.
— Что?
— Не поеду… Нельзя.
— Да ты с ума сошел!!! — Поезд уже двигался. — Сажин, прыгай, дурачина!
Но Сажин покачал головой и остался на месте.
Поезд набирал ход. Туляков, махнув рукой, исчез в вагоне. Затем открылось окно, и на самый уже край перрона полетел сажинский чемодан.
С этим чемоданом в руке неторопливо вышел Сажин на одесскую привокзальную площадь. У фонаря так же, как и в первый день его приезда, стоял старый одессит. Он поклонился, Сажин ответил ему. И дальше пошел Сажин по улицам Одессы, и с ним здоровались некоторые встречные — проехал Коробей на своей колясочке, простучал приветствие щетками по ящику чистильщик, поклонился Сажину с высоты железной лесенки Анатолий, вышедший из кинобудки…
* * *
Старший батальонный комиссар Сажин Андриан Григорьевич погиб в бою, защищая город Одессу, 21 сентября 1941 года восточнее Тилигульского лимана и похоронен в братской могиле.
Виктор Конецкий. Кто смотрит на облака
Моей матери Любови Дмитриевне Конецкой
Глава первая, год 1942
ТАМАРА
1
Тамара Яременко, пятнадцати лет, полурусская-полуукраинка, родившаяся в Киеве и потерявшая мать во время бомбардировки Нежина, добралась до Ленинграда к тетке по отцу.
Тамара была девочка высокого роста и выглядела старше своих лет. Тетку Анну Николаевну она никогда раньше не видела, и отношения у них сложились тяжелые. Анна Николаевна хотела спасти от гибели десятилетнюю дочь Катю, ради нее шла на любые жертвы, а Тамара, свалившаяся на голову в самое страшное время, вынуждала к заботам о себе.
Но Тамаре некуда было ехать. Да и Ленинград был окружен.
По мере того как голод увеличивался, морозы усиливались, безнадежность в душе Тамары росла. И, как это ни странно, главной успокаивающей мыслью была у Тамары мысль о том, что ей не надо ходить в школу и что она может забыть о своем высоком росте, из-за чего мальчишки раньше смеялись над ней. Она понимала, что слабеет и что может умереть скоро, но не пугалась этого, потому что не успела повзрослеть от несчастий. И когда во время воздушных тревог она читала Кате «Хижину дяди Тома», то плакала с ней вместе.