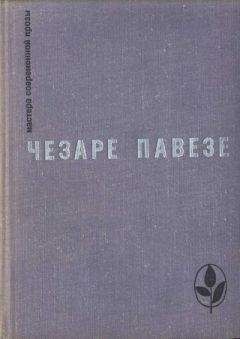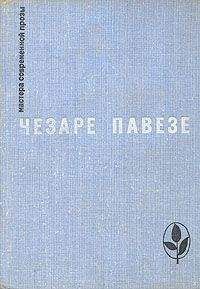— Не знаю. Мы нашли его на холме, когда он смотрел на звезды.
Тут Розальба судорожно уцепилась за мою руку и повисла на мне. Две крестьянки, проходившие по улице, обернулись и посмотрели на нас.
— Вы меня понимаете, правда? — сказала Розальба, тяжело дыша. — Вы видели, как Поли обращается со мной. Вчера я думала, что умру, я уже три дня одна в гостинице. Я не могу даже выйти погулять, потому что меня знают. Я здесь у него в руках; в Милане думают, что я на море. Но Поли пренебрегает мной, я надоела ему, он не хочет даже потанцевать со мной…
Я смотрел на камни мостовой и чувствовал, что на нас глазеют с балконов.
— …сегодня ночью, вы видели, он был в хорошем настроении. Когда он пьян, он еще переносит меня, но, пока не напьется, готов на все, чтобы удрать от меня. Теперь… — тут у нее пресекся голос, — …я никогда не знаю, что будет завтра.
Она не отпустила мою руку, даже входя, когда я откинул портьеру из звенящих висюлек. Поли и Пьеретто беседовали в тени, и, увидев нас, Пьеретто крикнул:
— Что мы будем есть?
Нам подали яичницу и вишни. Я старался не глядеть на Розальбу. Поли, разламывая хлеб, продолжал говорить:
— Тем вернее решаешься, чем ниже ты пал. Когда мы оказываемся на самом дне, когда все потеряно, тогда мы и обретаем самих себя.
Пьеретто смеялся.
— Пьяный есть пьяный, — сказал он. — Он уже не выбирает ни наркотики, ни вино. Он уже сделал выбор миллионы лет назад, когда в первый раз закричал «пей до дна».
— Есть внутренняя чистота, — сказал Поли, — ясность духа, которая идет из глубины…
Розальба молчала, а я не осмеливался смотреть на нее.
— Я тебе говорю, — перебил Поли Пьеретто, — что если ты сегодня ночью забыл про время, то потому, что потерял способность сделать выбор.
— Но я ищу эту чистоту, — упрямо сказал Поли, с трудом ворочая языком, — и я тем ближе к ней, чем лучше я осознаю, что я низок и что я взрослый человек. Ты понимаешь или нет, что человеку свойственна слабость? Как ты можешь подняться, если сначала не упадешь?
Розальба молча ела вишни. Пьеретто покачал головой и сказал:
— Нет.
Я думал о давешнем разговоре с Розальбой, и не столько о ее словах, сколько о голосе и о том, как она сжимала мою руку. Когда мы встали и собрались уходить, я взглянул на нее. Она показалась мне спокойной, сонной.
VI
Зря потратив утро, мы в кислом настроении расстались с Розальбой и Поли у подъезда гостиницы. Ярко светило солнце, и от сверкания витрин болели глаза. Мы с Пьеретто молча прошли по бульварам; я думал об Оресте.
— Пока, — сказал я на углу.
Я пришел домой и бросился на кровать. В коридоре слышались суетливые шаги матери, но я оттягивал момент встречи. Я не собирался спать, хотел только прийти в себя. От усталости мне легко удавалось не думать о прошедшей ночи, о сумбурных рассуждениях Поли, о хныканье Розальбы, и я мысленно видел над собой сияющее небо, в которое на рассвете проваливался в полусне, и шел по улочкам селения, поглядывая вверх, на балконы. Мне были знакомы такие селения, скучившиеся среди полей. Я помнил село на равнине, где жили дедушка и бабушка, к которым родители отправляли меня на каникулы, когда я был ребенком, огороды, оросительные канавы, шпалеры деревьев, проулки, дома с крылечками и лоскуты высокого-высокого неба. Из моего детства у меня в памяти осталось только лето. Жизнь и мир с утра до вечера были замкнуты в пределы узких улочек, выходивших прямо в поля. Великое чудо, если примчавшаяся бог весть откуда машина проедет по большаку через селение, поднимая пыль и взбудораживая ребятишек.
Пока я лежал в темноте, мне опять пришел на ум план пройти вместе с Пьеретто через холмы с рюкзаком за плечами. Я не завидовал тем, у кого есть машина. Я знал, что на машине только покрывают расстояние, но не знакомятся с краем, по которому едут. «Пешком — другое дело, — скажу я Пьеретто, — идешь по тропинкам, огибаешь виноградники, все видишь. Смотреть на воду совсем не то, что прыгнуть в воду, вот и тут такая же разница. Уж лучше быть голодранцем, бродягой».
Пьеретто смеялся в темноте и говорил мне, что теперь повсюду бензин. «Как бы не так, — бормотал я, — крестьяне не знают, что такое бензин. Для них коса и мотыга — это все. Прежде чем вымыть бочку или срубить дерево, они еще смотрят на луну — нет ли худого знака, а когда опасаются града, протягивают две цепи на гумне…»
«И страхуют имущество, — смеялся Пьеретто. — И покупают молотилки. И опрыскивают виноград купоросом».
«Крестьяне всем этим пользуются, — крикнул я вполголоса, — пользуются, но живут по-другому. В городе они чувствуют себя плохо».
Пьеретто ехидно смеялся. «Подари машину крестьянину, — сказал он с ухмылкой, — увидишь, как он будет оборачиваться. Уж будь покоен, он не посадит в нее ни Розальбу, ни нас. Крестьянин дела делает».
Я думал об Оресте, который учился на врача. «Вот крестьянин, который живет в городе, — сказал я Пьеретто. — Знаний у него побольше, чем у нас, но он не шалопайничает. Для него ночь имеет другой смысл, ты и сам это говоришь…»
Мою полудрему прервал телефонный звонок. Позвали меня. Я думал, что это Розальба, что она еще не выговорилась. Но звонила сестра Пьеретто, спрашивала, не видел ли я его — уже два дня его не было дома.
— Я расстался с ним полчаса назад, — сказал я ей, — сейчас он придет.
Чтобы не повредить ему, я не сказал, как мы провели ночь. Она сказала:
— Подонки вы и больше никто. Где вы спали?
— Мы не спали.
— Вот и плохо. Кто спит, не грешит, — засмеялась она.
— А кому охота спать?
За столом я соврал, что у нас лопнула шина. Отец сказал, что из-за шины может случиться несчастье, в особенности если тот, кто сидит за рулем, выпил. Потом он добавил, что не стоит развлекаться за счет приятелей: с людьми, у которых большие средства, никогда не расквитаешься.
После обеда я решил заниматься. Но перед этим я принял ванну, чтобы взбодрить себя. Я подумал, что Розальба и Поли, наверное, делают то же самое и что Розальба, пожалуй, слишком стара, чтобы позволять себе раздеваться при нем.
Под вечер зазвонил телефон. Это был Пьеретто.
— Приходи к Оресту, — сразу сказал он.
— Я занимаюсь.
— Приходи, дело стоит того, — сказал он. — Эти двое перестрелялись.
Скоро мы уже сидели в траттории и обсуждали это событие с Орестом, который пришел из больницы и два раза звонил своим приятелям-санитарам, чтобы справиться, как обстоит дело. Поли был при смерти: пуля попала ему в бок и задела легкое; а Розальба кричала сбежавшимся коридорным: «Убейте и меня, почему вы меня не убиваете?», так что пришлось запереть ее в ванной.
— Когда это произошло? — спросил я.
— Это она со злости выстрелила в него, — сказал Орест. — Перед этим она что-то кричала, в баре было слышно, как они ссорятся. Кто его знает, какая грязная история кроется за всем этим.
Произошло это среди дня, в самую жару. Поли, видимо, незадолго до того принял наркотик, потому что блаженно смеялся, лежа на диванчике.
Мы толковали об этом весь вечер. Теперь в больнице и в гостинице ждали указаний из Милана. Розальбу держали в номере под замком; ее судьба зависела от того, выживет ли Поли, а также от его отца, который должен был приехать: такой человек, как он, мог во избежание скандала в два счета прекратить расследование и всем заткнуть рот. Правда, налицо был револьвер Розальбы, дамская игрушка, обделанная в перламутр, но кое-кто был уже готов подменить его более подходящим оружием.
— Такова власть денег, — бесстрастно сказал Пьеретто. — Деньгами можно покрыть и преступление и агонию.
Орест еще раз позвонил в больницу.
— Приехал старик, — сказал он, вернувшись к нам. — И то хорошо. Интересно, знает ли он эту женщину.
Тут мы сказали ему, что во всем виноват Поли, что мы провели с ними ночь и даже при нас он обращался с нею по-хамски.
— Он сам на это нарвался, — говорил Пьеретто. — С такой женщиной, как Розальба, шутки плохи.
— Я сейчас же возвращаюсь в больницу, — сказал Орест. — Ему делают переливание крови.
В эту ночь мы с Пьеретто гуляли вдвоем. Я совсем выдохся и смертельно хотел спать, а он все пережевывал эту историю. Я сказал ему, что утром Розальба меня спрашивала о Поли.
— Было ясно, что это добром не кончится, — сказал Пьеретто. — Женщина может понять все, что угодно, только не душевный кризис, который переживает мужчина. Знаешь, что она мне сказала ночью? Что Поли, несмотря на свою молодость, теперь даже не смотрит на женщин.
— А меня она спросила, что мы делали на холме.
— Она бы предпочла, чтобы он развратничал. Такие вещи женщины понимают.
Тут я сказал, что, на мой взгляд, он и развратничал. Что кокаин, что свободный выбор — все одно скотство. Поли просто насмехался над людьми, вот и все. И если он за это поплатился, то так ему и надо.