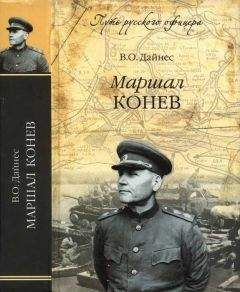– Прямо здесь?
– За встречу.
Они распили пол-литра “Столичной” прямо из горлышка – в три приема: сначала за встречу, потом за удачу (на платформе не было никого), потом (уже в поезде) – просто так, в дежурном порядке. Стало весело всем, хорошо. Прошел контролер по вагону, Телегин предъявил билеты. Щукин и Чибирев чувствовали, как стремительно адаптируются к обстоятельствам.
– Ландшафт промышленный, смотрю, – поделился Чибирев наблюдением.
Телегин пояснил на правах старожила:
– Рурский бассейн. Шахтерский район. Агломерат. Дядя Тепе не терпелось взглянуть на товар. Был он возбужден – то руки тер, то бил себя ладонью по колену. Опасно такому показывать.
– Давай доедем когда, – сказал Чибирев.
– Мы куда едем? – Щукин спросил. – К тебе или как?
– Нет, я далеко. До меня так не доедешь.
– Сначала к нам, в Рекклингхаузен, – сказал Телегин. – Переночуете. А завтра вечером поедете с ним.
– У меня хорошо, – сказал Дядя Тепа, – у меня просто рай.
В Рекклингхаузен приехали за полночь. Пешим ходом держали по городу путь, с частыми и продолжительными перекурами. Пусто было на улицах, никого. Здесь рано ложатся и рано встают. Дядя Тепа никогда не привыкнет рано вставать. А Телегин почти научился.
Лестница не была похожа на нашу. Жили Телегины на втором этаже.
Майя, если придираться, строго говоря, была хохлушкой, а не еврейкой. Возможно, в ней текла греческая кровь: учиться в Питер на химика-технолога она приехала из Керчи. При ней всегда был ровный смуглый загар, даже зимой; от нее, чернобровой и темноволосой, веяло знойностью – дочь степей, юг, темперамент. Кареокая. В Германии ее могли бы легко принять за турчанку. Ну, раз еврейка, пусть будет еврейка.
Щукин был знаком с ней едва-едва, а Чибирев и того хуже; да и с Телегиным оба не очень-то приятельствовали. Это Дяде Тепе, сверхобщительному от природы, было свойственно быть своим – и в том, и в другом, и в третьем кругу. Супруги Телегины к тем относились, с кем приятно придумывать авантюры. Заводилой Майка была. Год назад в Петербурге Дядя Тепа, Леня и Майя едва не продали неким арабам термос опяточной муки – сей грибной порошок выдавался за “высокотехнологичный секретный материал”, “катализатор”, необходимый в ядерной промышленности, – дело в том, что опята, собранные в Лужском районе, заметно фонили (~ 40 мкр/ч). Но – сорвалось. Слава богу. Иначе трудно представить последствия сделки. К лучшему все.
После этого случая с легким сердцем – сначала Телегины, потом Дядя Тепа – помогали совестливой Германии в терапии ее коллективного бессознательного, позволяя себя реализовать объектами европейской гуманитарной помощи – в самом радикальном и почетном модусе: в убежиществе.
Хотя один был едва-едва, а другой и того хуже с Майей знаком, когда вошли в дверь, расцеловала, как родных, и того, и другого, и – продолжим нумерацию – третьего (а Телегина, как самого родного, целовать не стала) и тут же спросила, что будут есть.
– Что дашь, – сказал Дядя Тепа.
Глобальный метаморфоз, переживаемый в то время Россией, в числе основных составляющих имел революцию быта. Новый быт обещал победить дизайном и упаковкой. Количеством, разносортностью, одноразовостью. Богатством красителей, удобосъедобностью, глянцем. Но так получилось, что население огромной страны в своем подавляющем большинстве в первый же год великих реформ (по существу, в первые же дни 1992 г.) лишилось практически всех сбережений; теперь предстояло узнать, что такое гиперинфляция, – вожделенная революция быта в стремительно нищающей стране пошла кривобоко. Народ еще не спешил нести на помойки добротные родные телекомоды – цветоносные “Рубины” и “Радуги”; заморский стаканчик, пластмассовый и одноразовый, не вытеснил еще признанного аборигена – стакан стеклянный, граненый.
Но выбор был сделан, и старое погибало. Гибло общество, которое ценило идеи выше вещей; скажем, идеи вещей выше самих вещей – за простым отсутствием этих вещей или, в лучшем случае, дефицитом. Что касается великих идей, объединявших некогда социум, то их умопостигаемость ныне заменялась другой добродетелью – натуральной предъявленностью к потреблению прежде немыслимого числа сортов колбасы, причем ассортимент чего бы то ни было грозил расти и расти, было бы кому покупать. На прилавках, еще недавно пустовавших, образовались товары в основном иностранные, хотя и поддельные в значительной части. Но на это ведь надо и время, и опыт, и денег чуть-чуть, чтобы, рискнув честным заработком, понять, почему “Наполеон” совсем не “Наполеон” (давно ли спиртное шло по талонам?), а нечто разлитое где-то в Польше. Пока россияне пытались осознать себя цивилизованными потребителями, им, усомнившимся в подлинности всего своего, продолжало мерещиться предъявление истинности любым говном в импортной упаковке. Запад между тем являл себя всего нагляднее на российском телеэкране с непривычной для зрителей методичностью – агрессивной рекламой чудо-шампуня. Реклама на ТВ была еще в диковинку и воспринималась меньше всего как призыв пойти и купить; скорее это было послание, мессидж – из инобытия, из райских кущ, из эдема – благая весть о счастливом образе жизни. Иными словами, тогдашний российский рай существенно отличался от западного первообраза – рая, в который попали Чибирев и Щукин.
Если бы не Дядя Тепа, организовавший экспедицию в Германию, они бы так и продолжали ощущать себя самыми обыкновенными смертными. Шутка ли сказать, начало девяносто третьего, а им до сих пор не доводилось объегоривать ближних (или даже не ближних, далеких) физических лиц; юридических – тоже. Они не удосужились (или постеснялись) не свое сделать своим, подобрать по обломку-другому рухнувшего государства (это ли не обломовщина?), а всего-то делов – наклонись, подними и неси в свой закуток, если плохо лежит и тем более под ногами. Оба придерживались правильных убеждений, по-честному верили в либеральные ценности и, как представители передового, революционного класса (интеллигенция), имели некоторые заслуги перед новым демократическим режимом, а потому ощущение аутсайдерства, все чаще посещавшее обоих, и Щукин, и Чибирев находили каким-то досадным синдромом временного недомогания.
Они не были небожителями, но и быт для обоих не был чем-то сверхценным.
А Телегин все спрашивал: “Ну как?” И Телегина интересовалась: “Понравилось ли?” Больше всех знать хотел Дядя Тепа: “Ну? Что почувствовали? Расскажите!”
Каждая деталь между тем домашнего интерьера (осмотр квартиры, двухкомнатной, с широким балконом) подсказывала правильный, однозначный ответ, каждый предмет вопиил о благополучии этого мира.
Они ели брюссельскую капусту – из пакетика – размороженную и подогретую в микроволновке (деликатес?). Был “Горбачев”. Оказалось, что “Горбачев” – не в честь Горбачева М. С., а в честь Горбачева другого. “Видишь, форма какая?” Щукин видел: горлышко бутылки распухало церковной маковкой. А у нас все бутылки были стандартные…
“А у нас”, “А у вас” произносилось чаще всего.
Ночь была. Московского времени не было.
То ли о родине затосковав, то ли наоборот, Щукин вдруг закручинился, молчаливым стал, невеселым. Их “Горбачев” уступал нашей “Столичной”, хотя мнения разделились. Странная веселость овладевала Чибиревым – вот задаст вопрос и, не дожидаясь ответа, совершит как бы акт, сказать можно было бы, подхихикивания, если бы не подъеекивал он: е-е-е-е-е-е… – много е – быстро и через дефис – словно кто-то дергал его за веревочку.
– У вас что же, хлеб нарезанным продается? Е-е-е-е-е-е…
(Целокупной буханкой хлеб продавался в российских булочных. Россия не знала нарезки.)
У Майи на носу были веснушки. Ей нравилось отвечать обстоятельно. Она звонко смеялась. Телегин тоже был бы рад что-нибудь рассказать, но за столом жена слова сказать не давала.
Кто был радостней всех, так Дядя Тепа. Он от радости был вне себя: вне себя он хотел воплотиться в гостей, их глазами смотреть на действительность – на нарезку, на тостер, на консервированные шампиньоны, – здешние знаки материального мира (в России его окружали другие) вновь возбуждали в нем еще не забытый восторг первосвидетельства.
Наибольшая радость его обуяла еще до того, как сели за стол, – когда, сгорая от нетерпения, он достал из щукинского рюкзака первую свертку изделий. Все изделия были распределены по “букетам” (его терминология), десять изделий в “букете”, каждый “букет” перетягивался черной аптечной резинкой. Первая свертка оказалась “букетом” изделий с ручками синего цвета. Дяде Тепе ужасно понравилось, он воскликнул: “Что надо!” Отделив одно изделие от “букета”, ловко вертел его в руке, словно это был инструмент тамбурмажора. Майя хлопала в ладоши.
Говорили о немецком менталитете, когда невеселый Щукин перевел взгляд со стола на “букет”, брошенный на пол. Он словно проснулся: