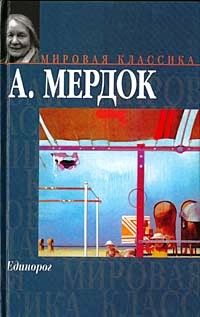Кейт думала: как восхитительно холодит лодыжки водичка — дивное ощущение прохлады, ласкающей горячее, напоминает знаменитый десерт, когда под горкой мороженого подают горячее пирожное. И море — такой насыщенной голубизны, совсем не синее, а как бы чаша, полная света. Что за бесподобный цвет — погрузиться бы в цвет этого моря и снижаться, кружа, по столбу голубизны к водовороту чистого света, где уже и цвета-то больше нет, а есть сплошное блаженство! Как великолепно все складывается — Октавиан ничуть не расстроился из-за Джона, ни капельки, я знаю, его это абсолютно не волнует. Октавин счастлив, и Джон у меня тоже будет счастлив. Его пока смущает мысль об Октавиане, но скоро он убедится, что все в порядке, все хорошо, и для него тоже настанет счастливая пора. Какое чудо любовь, нет ничего чудесней на свете! И какая удача, когда можно любить без уверток, без опасений, не ведая препон и преград! Конечно, Октавиан — потрясающий человек. Надо же иметь такой изумительный характер! И у меня, если на то пошло, — не хуже. Мы с ним оба вскормлены материнским молоком, у обоих было счастливое детство. А это много значит. По-моему, добродетель в человеке обусловлена, в конечном счете, складом характера. Да, нас всех ждет счастье, способное уживаться с добром. Ах, повезло мне все-таки родиться такой, как я!
— А, это вы! — сказал Вилли Кост. — Сколько лет, сколько зим…
Тео, не торопясь и не глядя на хозяина, вошел в коттедж, прикрыл плечом за собой дверь. Прошелся по комнате, поставив на подоконник бутылку виски. Заглянул на кухоньку и принес два стакана и кувшин с водой. Плеснул в стаканы виски, долил воды и поставил один стакан перед Вилли, сидящим за столом.
— Что это играют? — спросил Тео.
— Медленную часть двенадцатого квартета, опус 127.
— Невыносимо слушать.
Вилли выключил патефон.
— Муки сознания, представленные в замедленном темпе.
— Верно, — сказал Вилли.
Тео, прислонясь к длинному окну, выглянул наружу.
— Отличный бинокль. Это Барбара подарила?
— Да.
— Вижу, как у моря прогуливаются наши Три Грации. Одна краше другой.
— Вот как.
— Знаете, почему я так долго не приходил?
— Почему?
— Я считаю, на вас вредно действует мое присутствие.
Вилли отпил глоток виски.
— Вы знаете, что это неправда, Тео.
— Нет, правда. Вам нужны обычные активные люди. Мы с вами постоянно толкуем о метафизике, а метафизика — бесовское наваждение, вся насквозь от лукавого.
— Что же, доброкачественной метафизики не бывает?
— Нет. Такая не подлежит обсуждению.
— Прискорбно для человечества, учитывая, какие мы прирожденные болтуны.
— Правильно. Прирожденные болтуны. Что только усугубляет, углубляет, продлевает и приумножает нашу скверну.
— Оставьте, — сказал Вилли. — Очень немногим известны эти бесовские теории, о которых вы ведете речь.
— И тем не менее они оказывают влияние. Расползаются, просачиваются. Создают видимость знания. Даже то, в чем мы незыблемо уверены, известно нам лишь в иллюзорной форме.
— Как что, например?
— Как то, что все — суета. Решительно все суета, Вилли, и человек бредет в тумане пустой тщеты. Мы с вами здесь единственные, кто это знает, и потому дурно действуем друг на друга. Нам нужно болтать на эту тему. Мы с вами здесь единственные, кому дано знать, но дано знать и другое — что мы ничего не знаем. Мы слишком испорчены в душе, чтобы познать такую штуку, как истина, — мы знаем ее лишь умозрительно.
— И выхода нет?
— Выходов — хоть пруд пруди, на этой стороне, среди плодов воображения обычной жизни. Булочки к чаю — вот вам выход. Или Проперций — тоже выход. Но это так, подмена за неимением лучшего. Нужно суметь пробиться на другую сторону.
— Насчет Проперция вы, может, и правы, — сказал Вилли, — но что касается булочек к чаю, позвольте за них вступиться.
— Мэри, иначе говоря.
— Нет-нет, не Мэри. Мэри — это другое. Просто булочки к чаю.
— Булка булочке рознь, допускаю, — уступил Тео. — Но давайте возьмем Проперция. В чем суть всей этой вашей деятельности, если честно, какую вы преследуете цель? Бессмысленная возня, и только, стремление заполнить вакуум, который вам, ради спасения души, куда бы лучше было оставить незаполненным. Или ваше издание Проперция обещает стать крупным научным достижением?
— Да нет.
— Может быть, оно необходимо человечеству?
— Тоже нет.
— И не великое достижение, и даже не вызвано необходимостью. Рядовая заурядная работа, способ убить время. Зачем вы ею занимаетесь?
Вилли на секунду задумался:
— Она выражает мою любовь к Проперцию, любовь к латыни. Любовь стремится выразить себя, стремится проявить себя в работе. Это, быть может, не сформулируешь без искажений на языке вашей бесовской метафизики, но это несомненное благо. А если у тебя под рукой бесспорное благо, ты протягиваешь к нему руку.
— Разрешите внести поправочку, милый Вилли. Объект любви в данном случае — вы сами. Это и есть та ценность, которую вы пытаетесь превозносить и защищать с помощью латыни и Проперция.
— Возможно, — сказал Вилли. — Только не вижу надобности непременно это знать. Вы — большой дока по части неведения. Давайте же будем и тут пребывать в неведении.
Тео отошел уже от окна и стоял у стола, опираясь на костяшки пальцев и вглядываясь в лицо хозяина дома. Полы его пиджака разошлись, обнажив под собой мятую рубашку, коричневые засаленные подтяжки и грязный вязаный жилет. Из этого сокровенного нутра, поверх наваленных грудой книжек и словарей, несло потом вперемешку с запахом псины. Вилли переменил положение, растирая изящной маленькой рукой тонкую лодыжку.
— А разделаетесь с Проперцием, что тогда?
— Вероятно, еще какой-нибудь способ убивать время.
— Вам не рассказывали про этого типа, который покончил с собой?
— Нет, — удивленно сказал Вилли. — А кто это?
— Так, не из наших, как выразилась бы Кейт. Мелкая сошка из ведомства моего любезного братца. Переполох учинил неописуемый. Такого радостного оживления не наблюдалось со времени, когда Октавиан получил орден Британской империи. От вас это скрывают — сами знаете почему! Вас там у нас почитают за некий священный объект.
— Зря они беспокоятся обо мне, — проворчал Вилли. — Я отбуду свой срок.
— Да, я тоже так полагаю, — сказал Тео, — хоть и не знаю почему. А вот зачем я тяну — неизвестно. Чувствую себя все время отвратительно. И обстановку тамошнюю терпеть нет сил, поэтому тащусь сюда изводить вас. Там уж совсем плохо дело. Все за всеми следят, делая милое лицо. Homo homini lupus, Вилли, homo homini lupus.[26] Все до единого — сексуальные маньяки, о чем даже не подозревают. Чего стоит один мой братец, это круглое О, получающий эротическое удовлетворение от созерцания того, как его женушка флиртует с другим мужчиной…
— Ну зачем судить так строго, — сказал Вилли. — Особого зла от них нет. Да, не святые, — так что же, за это нападать на всех нас?
— Да, да, да! И когда я перестану нападать, то умру. Это единственное, что я умею, и я буду изрыгать поношения вновь и вновь, как надоедливая пичуга, которая тянет всегда одну и ту же песню.
— Если вы знаете столько, то должны знать и больше. Тогда вы судите, рассматривая нас в определенном свете.
— Да, — сказал Тео. — И этот свет выявляет мою порочную сущность, но не дает мне никакой надежды на лучшее, ни капли, ни крупицы надежды.
— Не может быть, — сказал Вилли. — Такого быть не может.
— Что есть выражение религиозной веры, в трогательной и вполне фундаментальной форме. Тем не менее существуют те, кто обречен.
— Тео, — сказал Вилли, — расскажите когда-нибудь — или, хотите, сейчас, — что все-таки произошло с вами в Индии, что случилось?
Тео, нависая над столом и выставив вперед свое заостренное, обуженное лицо, покачал головой:
— Нет-нет, сердце мое, нет. — Он сделал паузу. — Это вы, Вилли, когда-нибудь — или, хотите, сейчас — расскажите мне, каково вам было в этом… там, одним словом.
Вилли помолчал, разглядывая свою руку и словно бы пересчитывая на ней пальцы большим пальцем другой руки.
— Не исключено, — сказал он медленно, — что когда-нибудь и смогу…
— Вздор! — сказал Тео. — Не смейте мне рассказывать, ни под каким видом, — о таком нельзя говорить, я и слушать не стану!
Он оттолкнулся от стола и, обойдя его, стал за спиной у Вилли. Положил ему на плечи свои мясистые широкие руки, ощущая под ладонями по-кошачьи тонкие косточки, разминая пальцами мышцы.
— Я очень глупый человек, Вилли, — проговорил он.
— Я знаю. Некий kouros[27]…
— Ну их к лешему, этих kouroi! Вы должны простить меня, отпустить мне грехи!