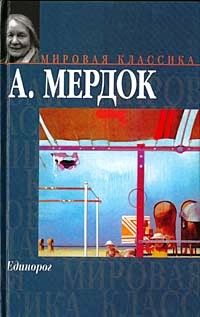— В этом направлении, убежден, ничего, — сказал Дьюкейн. — Нет, это, по-моему, нечто куда более экзотическое — нечто, связанное с занятиями магией, которые практиковал Радичи.
— Макрейт не говорил, что делал у Радичи Биранн?
— Нет. Он только видел, как Биранн приезжал туда. И полагаю, он говорил мне правду. Я припугнул его слегка.
— Мы его, кстати, уже уволили, прохвоста.
— Это не беда. Боюсь, все, что можно, я из него уже вытянул.
— А как отнеслись к этой истории в Скотленд-Ярде? Не захотят ребята сами взяться за это дело?
— Они ничего не знают! Отпечатки пальцев я снимал сам. Наплел им что-то о том, для чего это нужно.
— М-м. Не заработать бы впоследствии из-за этого неприятностей.
— Это вы предоставьте решать мне, Октавиан. Полиции, конечно, придется сказать правду. Только я раньше времени не хочу спугнуть Биранна.
— Вы не намерены попросить у него объяснения?
— Пока нет. Я хочу действовать по порядку. Мне требуется еще одна ниточка. Мне нужна Елена Прекрасная. В данный момент она — недостающее звено.
«Бентли» Дьюкейна медленно двигался в потоке часа пик по терракотовому изгибу Мэлла[28]. Сгустки зноя клубились среди ползучего шороха машин, застилали неверной дымкой неподвижные деревья Сент-Джемсского парка, уже теряющие к исходу лета тугую пышность своих крон. Настала одна из тех минут, когда вечерний Лондон, изнемогая от жары, испускает вздох отчаяния. Летний Лондон наводит тягостное ощущение тупого безразличия, какого не вызвать ни туманам, ни ранним сумеркам, — летнее оцепенение, когда одолевает зевота и стекленеют глаза и сон, которым ненадолго забудешься в убийственно скучной комнате, полон кошмаров. Рука об руку с расслабляющей истомой по городу крадется зло, воплощаясь в безразличие, бессонницу, бесчувственность. Это время, когда долгая борьба с соблазном устало завершается поражением, когда преступление, которое долго вынашивают в мечтах, в конце концов с легкостью совершают, небрежно пожав плечами.
Дьюкейн, сидя рядом с Файви на переднем сиденье, чувствовал, как расползаются вокруг него эти миазмы по запруженным толпой тротуарам, проплывающим мимо замедленно, словно бы во сне. Все в его жизни, казалось, приобрело неестественно раздутые, нелепые, искаженные формы. Он врал Джессике. Сказал ей, что из-за вечерних совещаний на работе не сможет увидеться с нею на этой неделе. Обещал, что увидится на следующей. Он ощущал, как Джессика все больше загоняет его в угол, затягивает все глубже в трясину. Бывали мгновения, когда он думал, почти цинично, — ну и давай, затягивай, буди во мне зверя, делай из меня демона, наделенного злой силой. После чего сознание, что мысли такого рода — отъявленная гнусность, ввергало его опять в состояние полнейшей неразберихи.
Потребность видеть Кейт приобретала тем временем нешуточную настоятельность — столь нешуточную, что утром он едва не поддался искушению велеть Файви везти его не в Скотленд-Ярд, а в Дорсет. Однако он слишком ясно понимал, как грубо, а может быть, и непоправимо любой подобный поступок нарушит ту гармоничную схему, которую так уверенно придумала, одобрила и утвердила для них сама Кейт. В их с Кейт отношениях присутствовала некая пленительная и невинная бездумность, требующая держаться подальше со своими насущными проблемами и даже неожиданностями. Огромная нежность — да, глубокое чувство — естественно, но никаких безумных порывов. Желать не возбранялось — сдержанно, в положенных границах, но лихорадочно цепляться — ни в коем случае. Каким же шатким представлялось ему сейчас это безоблачное всеобъемлющее благо, сообразно которому он отныне строил свою жизнь и ради которого убивал любовь Джессики! Что, если выложить Кейт всю правду о Джессике, подумал он, и с приливом облегчения вообразил, как, коленопреклоненный, стоит на полу перед Кейт, положив ей голову на колени. Но нет, думал он, это будет для нее жестоким ударом, а меня, удрученно прибавил он про себя, выставит двуличным и неискренним. Надо будет сказать, но только после, потом, когда все это давно закончится и отболит. Сказать теперь означало бы пойти против правил — ее правил. Нельзя вовлекать Кейт в свою неразбериху. По ее мысли, наши отношения должны быть просты и радостны — и, стало быть, такими мне надлежит неукоснительно их сохранять.
Открытие относительно Биранна расстроило Дьюкейна сильней, чем он готов был обнаружить перед Октавианом. Ему совсем не улыбалось идти по следу человека, которого он недолюбливал, и недолюбливал по вздорным и низменным причинам. На какие-то минуты — вероятно, под воздействием этой злокозненной летней расслабленности — Дьюкейн утратил привычное ощущение, с которым являл миру образ собранного, независимого, деловитого человека. Жалость к себе охватила его, чувство своей уязвимости, незащищенности перед неведомой угрозой. В таком состоянии людям легко было разбередить ему душу, больно ранить. Этим отчасти объяснялось, почему он уклонялся от встречи с Джессикой. Джессика способна была причинить ему невероятные страдания, и до сих пор лишь слепая любовь удерживала ее от этого. Он знал, что, если явиться к ней таким, как сейчас, обезоруженным и бессильным, она, почуяв это, подвергнет его мучительному испытанию. Не радовала Дьюкейна и мысль, что он приобрел противника в лице Биранна. Его коробило от вероятной перспективы обрести власть над этим человеком. Что бы там ни связывало вместе Биранна и Радичи, это было нечто неприятное, и притом, как улавливал пророческий нюх Дьюкейна, неприятное с жутковатым душком. Как бы ни повернулись события, Дьюкейну, похоже, так или иначе предстояло вскоре вступить в борьбу с Биранном, для чего он в нынешнем своем виде ощущал нехватку в себе участливости, ясности ума и, разумеется, сил.
Было также и любопытное явление, именуемое миссис Макрейт. Тогда, выйдя от Макрейта, Дьюкейн в первые минуты мысленно восстанавливал случившееся полупристыженно, полусмешливо и не без приятного возбуждения. Давно уже неожиданное не врывалось в его жизнь в подобном обличье, оставив по себе, откровенно говоря, восхитительное впечатление. С течением времени, однако, эпизод стал выглядеть уже не так забавно. Расследование продвигалось со скрипом, на ощупь, в густом тумане, успехов до сих пор не приносило, и ни к чему было осложнять его безответственными и опрометчивыми поступками. Он не мог позволить себе совершать оплошности. Макрейт — личность, неразборчивая в средствах, не брезгует шантажом, выбалтывает журналистам сведения, не подлежащие разглашению, да и вообще не тот человек, чтобы высокопоставленный государственный чиновник, на которого возложено негласное расследование, давал пищу слухам, что целуется с его супругой. На самом деле Дьюкейн не думал, что Макрейт — независимо от того, что могла наговорить ему жена, — способен серьезно навредить ему. Но все равно такое просто не должно было иметь места. Если же брать глубже, то по прошествии времени он оглядывался на этот эпизод с чувством подавленности, как если бы зелье, подмешанное в красненькое винцо, до сих пор продолжало оказывать на него усыпляющее действие. Не от дремотной ли скуки, что наполняла покои, где сидела и чего-то ждала обольстительница, привязалось к нему это ощущение тупого безразличия, которое отнимало у него сейчас столько сил?
Машина пошла быстрее, свернув на Олд-Бромптон-Роуд, ведущую по направлению к Эрлз-Корт, где находился дом Дьюкейна. Занятый мрачным и изнурительным раздумьем, Дьюкейн в то же время почти что машинально перебрасывался с Файви замечаниями о погоде, о прогнозе, предвещающем продолжение жары. Дьюкейн не мог похвастаться, что в его отношениях со слугой произошли заметные сдвиги, хотя на чисто физическом уровне приноровился к его пребыванию в доме и научился с легкостью подавлять в себе раздражение при заунывных звуках якобитских песен или слыша, как Файви по телефону в холле делает ставки на бегах. Файви поведал ему еще одну подробность о своей матушке — что она обучила его, «как тырить в магазинах». Когда, однако, Дьюкейн попробовал развить эту тему в надежде, что услышит от слуги признания о дальнейшей его карьере на преступном поприще, земляк-шотландец только буркнул загадочно: «Тяжело, сэр, жить на этом свете». А на вопрос Дьюкейна о женщине неопределенного возраста, фотографию которой Файви держал у себя в комнате, лишь отвечал горестно: «Было, сэр, да быльем поросло». И все же, несмотря на упорные намеки, что жизнь — не сахар, Файви, также явно освоясь со своим новым положением, по временам оживлялся и, встречаясь взглядом с хозяином… нет, сказать, что подмигивал, было бы преувеличением, но глядел понимающе, как бы говоря — хорошо, пусть я мошенник, но и ты, знаешь ли, на свой лад — не лучше. Разницы между нами — всего-то ничего. Тебе просто больше повезло, и только. Дьюкейна даже подкупала эта спокойная наглость.