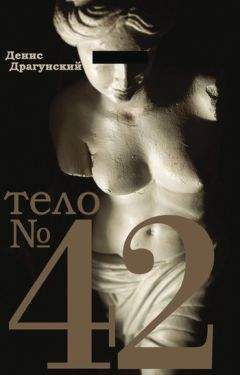Это было даже хуже, чем разгромная статья в «Комсомолке». Это был конец. Дальше водка, рак, ружье.
Почему у alter ego автора фамилия Булатов? Кто-то считает, что это перевод с русского на русский фамилии «Сталин». Но не думаю, что Кочетов был столь дерзок, способен на такие посягновения. Булатов – это тень Булгакова в вывернутом воображении пламенного коллекционера. Булгакову Кочетов, наверное, очень завидовал. Шутка ли – тот лично общался со Сталиным. Политбюро неоднократно заседало по поводу «Дней Турбиных», а сам спектакль великий вождь смотрел, говорят, полтора десятка раз.
У Булгакова – Турбины, а у Кочетова – Журбины. Неужели опять случайное созвучие? У Булгакова отвергнутая вождем пьеса, у Кочетова – не принятый властью роман. Хотя то и другое писалось по верховному заказу.
Да ну! – скажут мне в ответ. Все эти мелкие схождения перечеркиваются одним: Булгаков поразительно талантлив, Кочетов умеренно бездарен. Вот и всё.
Но нет, не всё. Сходство на этом не кончается. У них общий демон – тоталитарная власть. Оба слишком привязаны к ней, оба не могут жить и творить без, вне, помимо нее. Для обоих литература – политика. Это может быть свойственно и гениям, и талантам, и посредственностям, и бездарям. Это убивает всех писателей – одинаково.
«Я хотел служить народу и жить в своем углу», – сказал Булгаков перед смертью. Не получается. Живя в своем углу, можно служить одной лишь литературе. Когда сознательно служишь народу, то непременно выходишь на политическую арену. По-настоящему, на века служить народу писатель может лишь постфактум. «Все мы народ, и всё лучшее, что мы делаем, есть дело народное», – записывал Чехов.
Писатели! Будьте как Чехов. Ну или как Пруст, если вам не пишется кратко. Бог с ней, с политикой.
В Иркутске нужен дом-музей Пушкина.
Почему нужен? А вы разве не знаете? В начале января 1831 года Александр Сергеевич попросил разрешения выехать за границу. Если нельзя в Европу, то хоть в Китай, вместе с посольством. Ему отказали в обеих просьбах. Но ведь могли же и согласиться? В Европу вряд ли, а вот в Китай – самый раз. Секретарем дипломатической миссии. С заданием описывать тамошнюю жизнь. Политику, быт и нравы. А также промышленные занятия населения. В свободное время – природу и погоду: поэт же все-таки!
Ну вот, поехал он (точнее, мог поехать) в Китай. Естественно, пешим путем, то есть конным манером. С непременной остановкой в столице Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, славном городе Иркутске. По дороге туда останавливались всем посольством в губернаторском доме, но Пушкин непременно снял бы для себя и товарища своего, барона Шиллинга, флигель, прилежащий к дому вдовы статского советника Гончарова. Там он и должен был провести полторы недели перед отъездом в Кяхту.
По возвращении посольства назад с Пушкиным могла случиться заурядная неприятность: сломал лодыжку, упав с лошади. К тому же мог сделаться жар. Решено было (должно было быть решено!) оставить его в Иркутске до выздоровления. Заботливый барон Шиллинг хотел сам с ним остаться, но Пушкин, как гласит предание, сказал ему: «Гончаровы обо мне позаботятся, Наташа же мне милее петербургских Лаис; езжай!» Речь шла о Наталии Николаевне, дочери покойного статского советника Гончарова; напоминаю, что в их доме он останавливался на пути в Китай.
Чтобы не занимать читателя подробностями возможной иркутской жизни Пушкина, скажу лишь, что он вполне мог остаться жить в сибирской столице, жениться на Н. Н. Гончаровой (тамошней), родить четверых детей. Но всесильный Рок на то и есть безжалостный Фатум, чтоб не дать поэту докончить дни в благополучной старости даже в здоровом сибирском климате. В феврале 1837 года солнце нашей поэзии закатилось в результате несчастного случая. На охоте в него случайно выстрелил путешественник-француз – но вообще это темная история.
Дом вдовы статского советника (который в Иркутске должны были называть Домом Пушкина) то ли сгорел, то ли был снесен – неважно; неважно также, где в точности он располагался. Место всегда можно подобрать, и сделать – восстановить! – уютный бревенчато-ампирный особнячок. Кабинет с обширной библиотекой, гостиная-столовая-спальня, детские комнаты, комнаты тещи и Наташиных сестер, кухня с буфетной. Главное, чтобы прихожая была побольше – чтоб было, где раздеваться экскурсантам. Почитатели поэта пожертвуют старинную мебель, картины и книги, кое-что можно будет приобрести за счет бюджета…
Так будет справедливее. В Питере есть квартира-музей Пушкина, в Москве тоже есть – пусть и в Сибири будет.
Постойте! – скажут мне. Всякой игре есть край. Если он погиб на охоте, то где же его могила?
Отвечу: не вижу никакой проблемы в том, чтоб у великого человека было две (или три, четыре) могилы. Церковный опыт очень в этом смысле полезен. Гробницы с мощами св. Александра Невского находятся в Петербурге и во Владимире. Но и со светскими людьми такое случалось. Тело Шопена похоронено в Париже, его сердце – в Варшаве.
Спросят: а как же стихи? Но думаю, проницательный читатель сам построит нескучную версию того, как стихи доставлялись в Петербург.
Кстати говоря, очень многие дома-музеи и музеи-квартиры чуточку смахивают на вышеописанный проект.
Конечно, наш герой здесь жил. Живал, точнее. Ну или бывал. Здесь – в смысле в этом доме. В этих стенах. Кстати, стены после этого не раз перекладывались или как минимум починялись. Получается – не в этих стенах, а в этой, так сказать, геометрии. Но кто поручится, что геометрия не менялась в ходе реконструкций? Значит, на этом месте. В этой топографической виртуальности.
Нечего и говорить о меблировке, картинах, книгах, светильниках и статуэтках. Вещи, как вежливо поясняют экскурсоводы, «того времени». Но даже подлиннейший музей-квартира Пушкина на Мойке – и то: настоящие пушкинские книги хранятся в Институте русской литературы, а там – всего лишь точно такие же. И еще там на стене картина, изображающая Пушкина в гробу. Стал бы живой Пушкин у себя в доме такое вешать? То есть это не музей-квартира, а музей в квартире – почувствуйте разницу.
Но это, конечно, неизбежно. Как неизбежны исторические фантазии и фальсификации; кстати, грань тут провести довольно трудно. История – это не то, что нам дарует прошлое. Историю мы изготавливаем сегодня. И конечно, стараемся, чтобы получилось покрасивее, поинтереснее, подушеполезнее, так сказать.
Бывают случаи, когда весь процесс виден, как в лабораторном стекле.
Недавно в «Издательском доме Мещерякова» начала выходить серия под названием «Книга с историей». Пока появились четыре книги: «Легенды о короле Артуре», «Талисман» Вальтера Скотта, «Истории для детей» Диккенса и конечно же «Алиса в Стране чудес».
Когда я увидел эти книги в магазине на стойке, рука сама потянулась к ним. Потому что перед нами как будто старые книги 1950-х годов. Или даже раньше, поскольку детские книги 1950-х годов в своем оформлении отчасти следовали дореволюционной традиции. У меня были такие «Сказки Пушкина» с иллюстрациями Конашевича, такой Андерсен и еще что-то.
Формат почти А-4. Ленточка. Матерчатый корешок, настоящий, чуть ветховатый! Картонный переплет с картинкой. Переплет потерт! Вернее, изображена его потертость, растрепанность и надорванность ближе к краям – как будто отслоилась бумага и обнажился картон. Изображен пожелтевший форзац с какими-то советскими издательскими штампиками. Бумага и шрифт (делали специально) выше всех похвал, иллюстрации тоже – они классические, старинные.
В результате возник некий занятнейший феномен, особо интересный в свете нынешних споров о фальсификации истории, а также о реставрации архитектурных памятников.
Что же это за книга, к примеру, «Алиса»?
Точная копия старинной уникальной книги (в прямом смысле уникальной, в единственном экземпляре сохранившейся) – настолько точная, что все потертости воспроизведены? Такие издания были, в России в том числе. Нет, конечно, это совсем не то. Потому что именно такой книги в реальности не было. Ни 1950-е годы, ни ранее. Перевод Нины Демуровой, напечатанный в этой книге, появился в 1967 году. Если уж в самом деле копировать, то можно было взять перевод Анатолия Дактиля с классическими иллюстрациями Тенниела, в 1923 году изданный в частном издательстве, красиво, почти как в старые, дореволюционные времена. Так что перед нами не копия.
Стилизация? Нет. В этом случае не изображают потертости и помятости. Вот передо мной трехтомник Монтеня в издании «РИПОЛ классик» – типичная стилизация под несколько абстрактную книжную старину. При этом книга новехонькая, с иголочки. Больше того, цветные вклейки со старинными натюрмортами, напечатанными «навылет», то есть в обрез страницы, ясно дают понять, что это современное издание.
Может быть, новодел? Но новодел – это «почти копия», где, скажем, цветные иллюстрации «в три прогона» сделаны дешевым современным способом, и вообще сильно упрощена технология печати. В каком-то смысле к новоделам относятся фотомеханические переиздания старых энциклопедий, например полного Брокгауза. Новодел, опять же, не стремится изображать дряхлость переплета и засаленность форзаца.