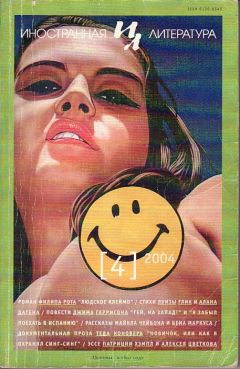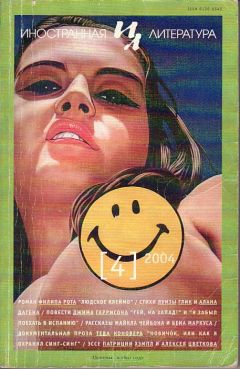— Где я тебя нашел, Волюптас? — шептал он. — Как я тебя нашел? Кто ты?
Тогда-то, в те сумасшедшие пьяные дни, Коулмен бросил свои вечерние тренировки в Чайнатауне, укоротил пятимильную утреннюю пробежку и в конце концов перестал относиться к своему профессиональному боксерству сколько-нибудь серьезно. В общей сложности он провел и выиграл четыре профессиональных боя — три четырехраундовых и один, последний, шестираундовый, все по понедельникам, вечерами, в старом зале Сент-Никс. Стине он про это ничего не говорил, как не говорил никому в университете и, конечно, никому из родных. В первые студенческие годы это был еще один его секрет — правда, боксировал он под именем Силки Силк и на следующий день результаты печатались петитом на спортивных страничках таблоидов. С первой же секунды первого тридцатипятидолларового четырехраундового он почувствовал себя по-другому, чем на любительском ринге. Не то чтобы он очень хотел проигрывать, когда был любителем, но, став профессионалом, старался вдвое усердней, пусть даже только чтобы доказать самому себе, что мог бы тут закрепиться, если бы захотел. Все бои кончил досрочно, а в последнем, шестираундовом и стодолларовом, в день, когда гвоздем программы был Красавчик Джек, он разобрался с парнем за две минуты с секундами и даже нисколько не устал. Выходя на этот бой, Коулмен волей-неволей должен был миновать кресло Солли Табака, боксерского агента, сидевшего у самых канатов, который пытался уже его соблазнить десятилетним контрактом с передачей ему, Табаку, трети всех призовых. Солли хлопнул его по спине и прошептал обычным своим мясистым шепотом: „Силки, прощупай ниггера в первом раунде, погляди, на что он годен. Не спеши, люди деньги платили“. Коулмен кивнул Табаку и улыбнулся, но, поднимаясь на ринг, подумал: „А пошел ты. За паршивые сто долларов я должен позволить кому-то бить мне морду, чтоб люди развлеклись получше за свои деньги? Должен думать о каких-то остолопах в пятнадцатом ряду? Он весит сто сорок пять фунтов, я сто тридцать девять, в нем росту пять футов и десять дюймов, во мне пять и восемь с половиной, и я еще должен позволить ему стукнуть меня по башке пять или десять лишних раз, чтобы не испортить людям зрелище? Да провались оно, это зрелище. Останусь небитым“.
После боя Солли был недоволен поведением Коулмена. Посчитал его мальчишеским.
— Ты мог прикончить этого ниггера не в первом раунде, а в четвертом, люди же деньги платили. Но ты этого не сделал. Тебя просят по-хорошему, а ты ноль внимания. Почему, умничка?
— Потому что я с черномазыми нянчиться не желаю.
Вот как он ответил, студент Нью-Йоркского университета, специализирующийся по античной литературе, бывший первый ученик класса, сын покойного Кларенса Силка, оптика, а затем официанта в вагоне-ресторане, филолога-любителя, грамматиста, педанта и знатока Шекспира. Вот насколько он был упрям и скрытен! За что бы ни брался этот цветной выпускник ист-оринджской средней школы, он брался всерьез.
Он покончил с боксом из-за Стины. Да, опасный смысл в ее стихотворении он увидел зря — и все-таки по-прежнему был уверен, что в один прекрасный день таинственные силы, питавшие их неистощимый сексуальный пыл, превращавшие их в любовников до того необузданных, что Стина, по-неофитски соединяя самолюбование с самоиронией, на среднезападный манер окрестила их „парочкой психов“, растворят в воздухе его маску прямо у нее на глазах. Как это произойдет, можно ли этому помешать — он не знал. Но бокс тут явно был ни к чему. Узнай она про Силки Силка, сразу же возникли бы вопросы, которые неминуемо навели бы ее на истину. Она знала, что в Ист-Ориндже у него живет мать, дипломированная медсестра и благочестивая прихожанка, что у него есть старший брат, который начал преподавать в седьмых и восьмых классах школы в Асбери-Парке, и сестра, которая скоро получит учительский диплом в Монтклэре, и что раз в месяц их воскресная любовь на Салливан-стрит должна кончиться раньше, потому что Коулмена ждут в Ист-Ориндже к обеду. Она знала, что его отец был оптиком — оптиком, и только, — и даже что Кларенс Силк родился в Джорджии. Коулмен старался не давать ей повода сомневаться в правдивости его рассказов, и, бросив бокс навсегда, он избавился от необходимости лгать даже в этом. Он вообще ни разу Стине не солгал. Он только следовал указанию, которое дал ему док Чизнер по пути в Уэст-Пойнт: если не спросят, сам не говори. Эта тактика уже провела его через флотскую службу.
Решение взять ее с собой в Ист-Ориндж на воскресный обед, как и все его теперешние решения — даже послать молча подальше Солли Табака и прихлопнуть соперника в Сент-Никс в первом же раунде, — было плодом его, и только его, размышлений. Они встречались почти два года, Стине было двадцать, ему двадцать четыре, и он не мог уже себе представить, что идет по Восьмой улице или по жизни без нее. Ее ровное, ничем не примечательное поведение по будням, сменяющееся каждый уик-энд диким всплеском страстей, — а поверх всего ее американское, вспыхивающее электрической лампочкой девическое сияние, ее прямо-таки сверхъестественная по силе телесная лучезарность — все это поразительным образом подавляло безжалостно-независимую волю Коулмена: Стина не только отлучила его от бокса и свела на нет дерзкий сыновний вызов, выразившийся в превращении Коулмена в непобедимого Силки Силка, но и освободила его от влечения к кому-либо еще.
Но сказать ей, что он цветной, Коулмен не мог. Слова, которые он наедине с собой молча проговаривал, услышь она их, заставили бы все выглядеть хуже, чем оно есть, и его самого заставили бы выглядеть хуже, чем он есть. После признания, пытаясь вообразить его семью, она нарисовала бы мысленно совершенно ложную картину. Не зная негров, она представила бы себе нечто похожее на то, что видела в кино или слышала по радио, о чем рассказывают анекдоты. Он знал, что она лишена расовых предубеждений и, если бы увидела Эрнестину, Уолта и мать, мигом поняла бы, насколько они обычные люди и как много у них общего с ее респектабельно-занудной родней в Фергус-Фолс, от которой она рада была сбежать. „Только пойми меня правильно, это чудесный город, — торопилась она ему объяснить. — Очень красивый. И необычный, потому что с востока к нему подходит озеро Оттер-Тейл, а еще там есть река Оттер-Тейл — наш дом почти на ее берегу. И у нас, наверно, все же чуть поинтереснее, чем в других похожих городках, потому что довольно близко, к северо-западу, наши университетские города Фарго и Мурхед“. Ее отец владел магазином скобяных изделий и немного торговал лесом. „Папаша мой — что-то невероятное. Глыба, громадина. Несокрушимый великан. Огромный кусище окорока. За вечер вливает в себя целый ящик любого спиртного, какое есть. Я поверить не могла и до сих пор не могу. Хлещет и хлещет. И так во всем. Железяка саданет ему по ноге — он шурует дальше, даже не промоет рану. Исландцы, они все такие. Бульдозеры. Нет, личность он интересная. Замечательный человек. Заговорит — вся комната умолкает. И он не один такой. Мои дед и бабка, Палссоны, тоже. Да, и бабка“. — „Исландцы. Надо же, я и слова-то этого никогда не слыхал. Знать не знал, что они есть в Америке. Я вообще ничего о них не знал. С каких пор они в Миннесоте?“ Она со смехом пожала плечами. „Хороший вопрос. Я думаю, со времен динозавров“. — „Ты от него, значит, деру дала?“ — „От него. Попробовал бы сам побыть дочерью этой хмурой махины. Подавляет“. — „А мать? Ее он тоже подавляет?“ — „Это датская ветвь, Расмуссены. Нет, ее поди подави. Она для этого слишком практична. Про ее родню могу сказать — правда, это не их особенное свойство, все датчане такие; да и норвежцы тоже, — что их прежде всего интересуют вещи. Скатерти. Блюда. Вазы. Без конца разговоры о том, сколько что стоит. Мой дед Расмуссен такой, и вся мамина семья. Мечтать — нет, это не по их части. Ничего нереального. Кругом одни вещи, вещи и их цены, что почем. Мать приходит в гости, рассматривает все предметы, про половину знает, где куплены, и говорит, где можно купить дешевле. То же самое с одеждой. Практичность, голая практичность у всей той родни. Бережливые-бережливые, чистоплотные-чистоплотные. Я прихожу из школы, у меня точечка чернильная под одним ноготком — она замечает. Если в субботу вечером должны прийти гости, стол она накрывает в пятницу часов в пять. За сутки всё уже на месте, каждый бокал, каждая серебряная ложечка-вилочка. Потом набрасывает сверху легонькую прозрачную ткань, чтобы ни пылинки не упало. Организовано все идеально. И потрясающе готовит — для тех, кому нравится еда без специй и соли. Вообще без вкуса. Такие вот у меня родители. С ней даже хуже — никакой глубины ни в чем. Одна поверхность. Она все организует, папаша все дезорганизует, ну а я доросла до восемнадцати, школу кончила — и сюда. Если бы поступила в Мурхед или в университет Северной Дакоты, все равно пришлось бы жить дома, поэтому я послала к чертям тамошнее образование и рванула в Нью-Йорк. Так что вот она я. Стина“.