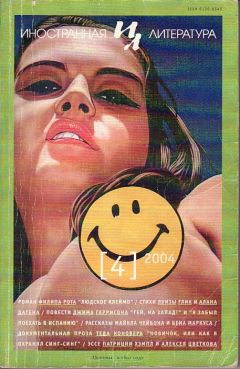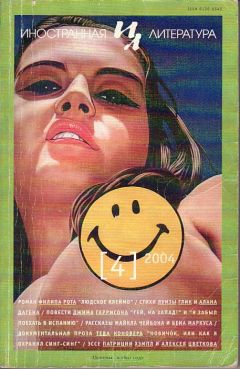После этого до конца обеда, пока молодой парочке не пришла пора возвращаться в Нью-Йорк, все шло как надо. Внешне — воскресенье из воскресений, милая мечта всякой добропорядочной семьи, картинка, не имеющая ничего общего с жизнью, которую, как опыт уже научил даже младшую из четверки, и на полминуты нельзя избавить от изначальной неустойчивости, свести к чему-то предсказуемому.
И только когда поезд с ехавшими в Нью-Йорк Коулменом и Стиной приблизился к перрону Пенсильванского вокзала, Стина разрыдалась.
До этого почти всю дорогу она, казалось, крепко спала, положив голову ему на плечо, — еще бы, сколько же ей понадобилось сил, чтобы так продержаться весь обед!
— Стина! Что случилось?
— Я не смогу! — крикнула она и, ничего больше не говоря, задыхаясь, сотрясаясь от плача, прижимая к груди сумочку — и забыв про шляпку, которая, пока они ехали, лежала у него на коленях, — бросилась одна прочь из поезда, словно спасаясь от посягательства, и больше ни разу не позвонила и не пожелала увидеться.
Четыре года спустя, в пятьдесят четвертом, они столкнулись у вокзала Гранд-Сентрал. Остановились, подали друг другу руки, поговорили как раз столько времени, чтобы расшевелить изумление, которое вызывали друг у друга в двадцать два и восемнадцать, — и разошлись, подавленные тем непреложным фактом, что статистика не преподнесет им больше такого подарка, как эта случайная встреча. Он уже был в то время женат, скоро должен был стать отцом, преподавал античную словесность в Аделфи-колледже и в городе появлялся не часто. Она работала в рекламном бюро на Лексингтон-авеню, по-прежнему была не замужем, по-прежнему была красива, но теперь уже не девической, а женской красотой — настоящая жительница Нью-Йорка, очень стильно одетая и явно такая, с которой поездка в Ист-Ориндж, случись она позже, чем случилась, вполне могла бы кончиться иначе.
Как она могла бы кончиться, если бы реальность не поспешила вынести свой вердикт, — мысль об этом не давала ему покоя. Ошеломленный тем, насколько свежа оказалась рана у них обоих, он шел по городу, понимая, как никогда раньше не понимал вне своих занятий античной драматургией, что жизнь с превеликой легкостью может выбрать одно или другое русло, что судьбу творит случайность… и, с другой стороны, что кажущаяся случайность может быть проявлением непреложной судьбы. Словом, он шел, не понимая ровно ничего, зная, что не способен ничего понять, но теша себя иллюзией, что понял бы нечто метафизически значимое, нечто колоссально важное о своем упрямом решении стать хозяином собственной жизни, если бы… если бы только такие вещи были доступны пониманию.
Пришедшее неделю спустя на адрес колледжа очаровательное письмо на двух страницах, где она написала, как хорошо он „пикировал“ во времена их встреч на Салливан-стрит — „совсем как хищная птица, которая, пролетая над сушей или морем, вдруг видит что-то движущееся, что-то полное жизни, мгновенно нацеливается, камнем падает вниз и — хвать!“ — начиналось так: „Дорогой Коулмен! Я была очень рада нашей встрече в Нью-Йорке. При всей ее краткости я после того, как мы распрощались, почувствовала осеннюю печаль — наверно, потому, что теперь, когда прошло шесть лет со дня нашего знакомства, стало до боли очевидно, как много дней жизни осталось позади. Ты очень хорошо выглядишь, и я рада, что ты счастлив“. Кончалось письмо растянутым зыбким прощанием из семи небольших фраз и печально-ласкового завершения, в которых, перечитав множество раз, он увидел знак сожаления о ее потере и завуалированное, еле слышимое извинение: „Ну вот и все. Довольно. Я не должна тебе докучать. Обещаю, что больше не стану. Будь счастлив. Будь счастлив. Будь счастлив. Со всей нежностью, Стина“.
Письмо он хранил, хотя последние несколько лет не вспоминал о нем, и когда теперь, перебирая бумаги, случайно на него наткнулся и стал перечитывать, к нему вернулась мысль, с которой он шел по улице после того, как, легонько чмокнув Стину в щеку, распрощался с ней навсегда: что, выйди Стина за него замуж, как он хотел, вся их совместная жизнь, как и жизнь их детей, была бы совершенно иной, чем с Айрис. И с матерью и Уолтом все сложилось бы по-другому. Скажи Стина: „Все нормально“, он прожил бы другую жизнь.
Я не смогу. Здесь была своя мудрость — невероятная мудрость для двадцатилетней. Но ведь это-то его в ней и привлекало — основательное, трезвое здравомыслие. Если бы она… но тогда она не была бы Стиной и он не хотел бы ее себе в жены.
К нему вернулись те же бесполезные размышления — бесполезные для человека менее великого, чем Софокл: какие случайности творят судьбу… и каким случайным порой кажется неизбежное.
Айрис Гительман, как она представила Коулмену себя и свое происхождение, росла своенравной, умной и полной скрытого бунтарства, со второго класса планируя бегство из авторитарного домашнего окружения. Дом ее родителей в Пассейике содрогался от ненависти к социальному гнету во всех его проявлениях — в особенности к гнету раввинов с их агрессивной ложью. Отец Айрис, говоривший на идише, был, по ее словам, таким еретиком и анархистом, что даже не сделал двум ее старшим братьям обрезание; ее родители не посчитали нужным получить разрешение на брак или пройти гражданскую церемонию. Двое необразованных иммигрантов-атеистов, они плевали на землю при виде проходящего раввина, считали себя мужем и женой и называли себя американцами и даже евреями. Но называли по своей воле, не спрашивая разрешения и не ища одобрения у тех, кого ее отец презирал, считая „лицемерными врагами всего естественного и хорошего“, — то есть у незаконно властвующих бюрократов. На потрескавшейся грязной стене над стойкой с газированной водой в их загроможденной семейной кондитерской на Мертл-авеню — магазинчик, рассказывала она, был „такой малюсенький, что не хватило бы места и похоронить нас пятерых бок о бок“, — висели вырезанные из газеты и взятые в рамки фотографии Сакко и Ванцетти. Каждый год двадцать второго августа, в годовщину того дня в 1927 году, когда этих двоих анархистов казнили за не совершённые — так, по крайней мере, внушали Айрис и ее братьям — убийства, торговля прекращалась и семья, чтобы соблюсти однодневный пост, собиралась наверху, в крохотной и тесной квартирке, где безумный хаос превосходил даже тот, что царил в кондитерской. Этот ритуал, этот культ отец Айрис придумал сам, по-идиотски взяв за образец еврейский Судный день. То, что он считал своими „идеями“, не заслуживало, конечно, такого названия — по-настоящему глубоко в нем коренились только отчаянное невежество, горькая безнадежность обездоленного и бессильная революционная ненависть. Все, что говорилось, говорилось в обличительном тоне, со стиснутыми кулаками. Отец знал такие имена, как Кропоткин и Бакунин, но в глаза не видел их сочинений, и из „Фрейе арбейтер штимме“, анархистского еженедельника на идише, который он регулярно приносил домой, редко читал больше, чем те несколько фраз, что, борясь со сном, одолевал поздно вечером. Ее родители, объяснила она Коулмену — объяснила горячо, вызывающе горячо, в кафе на Бликер-стрит спустя минуты после того, как он подцепил ее на Вашингтон-сквер, — были простые люди, не умевшие ни внятно описать, ни рационально обосновать фантастический бред, который ими владел, и тем не менее безоглядно приносившие этому бреду в жертву друзей, родных, бизнес, доброе отношение соседей, даже собственное душевное здоровье, даже душевное здоровье детей. У них была одна песня — не желаю иметь с этим, ничего общего, и взрослеющей Айрис казалось, что они не желают иметь общего вообще ни с чем. Безостановочное движение многообразных сил, сложное и предельно напряженное переплетение подспудных интересов, постоянная борьба за превосходство, непрекращающееся порабощение, групповые раздоры и сговоры, мораль с ее словесным ловкачеством, повсеместно принятые нормы с их умеренным деспотизмом, не устойчивая иллюзия устойчивости — словом, общество, каким оно сложилось, каким оно всегда было и должно быть, — все это было им так же чуждо, как марк-твеновскому янки двор короля Артура. И вовсе не потому, что, соединенные более прочными узами с какими-то другими временем и местом, они были насильственно пересажены в совершенно незнакомый мир. Нет, скорее они напоминали людей, перенесенных в зрелость прямо из колыбели, не научившихся в промежутке обращаться с неустранимым звериным началом в человеке. Айрис с раннего возраста не могла понять, кто ее воспитывает — идиоты или визионеры, и что такое это страстное отрицание, которое она должна была разделять, — откровение об ужасной истине или смехотворное наваждение чокнутых.
Долго еще в тот день она рассказывала Коулмену фольклорно-экзотические истории, в которых ее детство и юность над кондитерской в Пассейике, принадлежавшей таким живописно-темным индивидуалистам, как Морис и Этель Гительман, представали мрачным приключением, чем-то не столько даже из русской литературы, сколько из комиксов на русские темы, словно Гительманы были свихнувшейся соседской семейкой из напечатанного в воскресном номере рассказа в картинках „Карамазовы“. Все это походило на спектакль, сильный и выразительный, и автором его была девушка, которой едва сравнялось девятнадцать, сбежавшая из Нью-Джерси на другой берег Гудзона, — хотя буквально все гринич-виллиджские знакомые Коулмена откуда-нибудь да сбежали, в том числе из таких неближних мест, как Амарилло, — давшая деру без всякой идеи кем-то стать, только с тем, чтобы получить свободу, очередная экзотическая особа без гроша в кармане на подмостках Восьмой улицы, экспансивная брюнетка с театрально-крупными чертами лица, неугомонная, „фигуристая“, как тогда говорили, зарабатывавшая на учебу в удаленной от центра Студенческой лиге искусств отчасти тем, что позировала обнаженной, девушка, чей стиль был — не скрывать ничего, которая не больше боялась вызвать переполох в общественном месте, чем исполнительница танца живота. Ее шевелюра — это было что-то особенное: лабиринт, бурное море, неистовый венок из спиралей и завихрений, курчавое нагромождение, вполне подходящее по величине, чтобы сойти за рождественский парик. Весь сумбур ее детства, казалось, воплотился в извивах этих зарослей. Ее неукротимые волосы… Ими можно было драить металл, нанося их строению не больший ущерб, чем если бы они были неким жестким рифообразующим организмом, извлеченным из чернильных глубин океана, — непролазным живым угольно-черным гибридом коралла и кустарника, не лишенным, возможно, лечебных свойств.