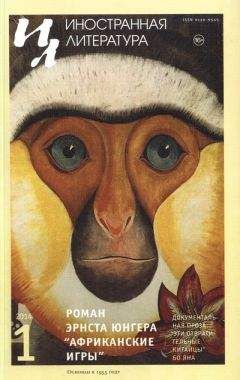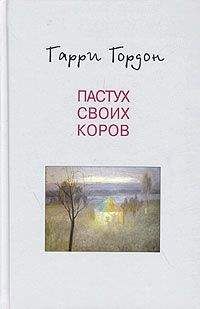Лежа в кровати, Тацуру услышала, как этот мужчина, опора семьи, шагнул к входной двери и его алюминиевый судок с едой коротко звякнул. Наверное, Чжан Цзянь шел ощупью и задел дверной проем, и от этого звука Тацуру нырнула в кружащий голову сон.
Больше месяца назад она вскарабкалась по скалам и петляющей тропкой отправилась на поиски бамбуковой рощи, но скоро поняла, что где-то свернула не туда. Свернула еще раз, пошла другой тропой и отыскала то место, где Чжан Цзянь остался передохнуть с детьми, на земле лежал башмачок — не то Дахая, не то Эрхая. Выбравшись из рощи, она бросилась искать их, обежала все людные места вокруг. Скоро парк стал ей как родной: Тацуру исходила каждый его клочок, даже во все туалеты по несколько раз заглянула. Бродя по пустеющему парку, она вдруг поняла, зачем Чжан Цзянь привез ее в такую даль — чтобы бросить. Оказалось, она уже давно сидит на каменной ступеньке крутой горной тропы, отрезанная от всего мира. Деревня Сиронами, в которой она росла, осталась так далеко, а еще дальше за Сиронами, на востоке, лежала ее родная Япония. В Японии тоже была деревня Сиронами, где покоились предки семьи Такэути. Японская Сиронами была слишком далеко, раньше Тацуру могла отыскать ее в лицах Ятоу, Дахая, Эрхая, в их глазах она находила и гнев, и ликование погребенных на родине предков. Яростный гнев и яростное ликование, а еще то особое безмолвие и спокойствие, которое знали только жители Сиронами. Она гладила головки сыновей, их густые волосы соединялись с густыми бровями, и казалось, что отец и братья возродились в ее детях, воскресли в маленьких телах ее сыновей, чтобы согреть ее и поддержать. Тацуру сидела на каменной тропке у Янцзы, между далеким небом и далекой водой, и размышляла, что три маленьких жителя Сиронами, которых она родила, теперь дальше от нее, чем край света.
Когда снова спустилась по тропинке вниз, парк уже опустел. Она хотела спросить, как пройти к железнодорожной станции, но не знала слова «станция».
Подошла к чайному лотку, там уже сворачивали торговлю, макнула палец в лужицу заварки на столе и вывела иероглифы «поезд»: 火车. Хозяйка лотка, пожилая женщина лет шестидесяти, заулыбалась, затрясла головой, даже покраснела — неграмотная. Лоточница остановила прохожего, чтобы он прочел два больших иероглифа, написанных заваркой на столе. Прохожим оказался парнишка с ручной тележкой, он решил, что Тацуру немая, захлопал по своей тачке, отчаянными жестами и гримасами показывая, что отвезет ее, куда надо. Спрыгнув с тележки, Тацуру сунула руку в карман и, теребя купюру в пять юаней, задумалась, нужно ли отдать ее парнишке. В конце концов решила, что денег не даст, а лучше отблагодарит его лишним поклоном. Сдвинув колени, она хлопнула ладонями по ляжкам и поклонилась до земли, так перепугав паренька, что он поспешил прочь со своей тележкой; отбежав подальше, обернулся, но там его догнал новый поклон — теперь бедняга убегал без оглядки.
Тацуру быстро сообразила, что паренек завез ее не туда: она написала только слово «поезд», без иероглифа «станция», и он высадил ее у развилки двух железнодорожных веток. Скоро вдали показался товарный состав, проходя мимо Тацуру, он вдруг замедлил ход, и ватага ребятишек, сидевших в камыше у канавы, запрыгнула в вагон. Они замахали ей, закричали: «Сюда! Сюда!» Тацуру со всех ног пустилась за поездом, и несколько детских рук затащили ее наверх. Запрыгнув, Тацуру спросила: «От Юйшань? Юйшань иду?» Дети переглянулись, не понимая, чего она хочет. Тацуру была уверена, что говорит правильно, а они все равно не поняли — веры в себя поубавилось. Под завывания ветра она еще раз собрала нужные слова вместе и спросила, теперь вдвое тише: «Иду Юйшань?» Один из мальчиков решил ответить за всех и кивнул ей.
Настроение у детей немного испортилось — кое-как затащили женщину в вагон, а она и двух слов связать не может.
Вагон был нагружен арбузами, спрятанными под клеенкой. Мальчики приподняли клеенку, и она превратилась сразу и в навес, и в одеяло, укрыв под собой Тацуру и еще полдюжины пассажиров. Теперь стало ясно, почему поезд сбавил ход: он шел через размытый дождями участок дороги, на котором вели ремонт. Тацуру улеглась на арбузы, ее качало то вправо, то влево, сквозь прореху в клеенке было видно, как ярко горят фонари рабочих. Она знала, зачем Чжан Цзянь так глядел на нее с утра: он хотел ее тело. Чжан Цзянь облокотился на балкон и курил, Тацуру открыла окно, а он не обернулся. Она ждала, когда же он обернется. Не выдержав, Чжан Цзянь посмотрел на нее, они стояли в паре шагов друг от друга, но его губы уже коснулись ее. Он хотел еще раз, последний раз получить ее тело.
Тацуру сама не заметила, как заснула, убаюканная тихим покачиванием арбузов.
Проснулась от холода, клеенка теперь куда-то исчезла. Огляделась по сторонам, дети тоже пропали, прихватив с собой немало арбузов. Поезд вонзился в бескрайнюю черную ночь и рвался во тьму, еще глубже. Тацуру не знала, ни сколько сейчас времени, ни где она. Зато поняла: все сыграло на руку Чжан Цзяню, все сложилось так, чтобы его план удался, чтобы он разлучил Тацуру с детьми. Ее связь с родиной, с Сиронами, с погибшей семьей Такэути все-таки оборвалась.
Арбузный поезд останавливался и снова трогался в путь, то под палящим солнцем, то под проливным дождем. Много раз Тацуру набиралась смелости, чтобы прыгнуть вниз, и столько же раз собиралась с духом и оставалась в вагоне. Несколько дней она ела одни арбузы, и все ее тело с головы до ног вымокло в красно-желтом соке, растрепанные ветром волосы слиплись и легли на плечи, словно соломенный плащ мино [55]. Голову заполнял вой ветра — звук трения поезда о темноту. Этот звук буравил ее плоть, разбегался по сосудам и улетал прочь с двумя ручейками слез. Она лежала ничком на стылых перекатывающихся арбузах, позволяя этим ненадежным круглым попутчикам швырять себя то вправо, то влево. Много лет назад хунхузы посадили Тацуру в мешок и бросили на спину скачущей во весь опор лошади, но и тогда она не чувствовала такого отчаяния, как сейчас. Лежа на арбузах, она вспомнила про Амон.
Амон, которая рожала в придорожной канаве. Рассыпанные волосы, восковое лицо, мертвенно-бледные губы — такой встречала Амон вечер сентября 1945 года. Она была похожа на гору обагренного кровью мусора: промокшее кимоно, залитые алым ноги, окровавленный ребенок, еще горячий. Она шла, шла, да так и родила на ходу. Едва успев появиться на свет, младенец испустил дух, длинная пуповина свивалась кольцами, как плеть у недозрелой тыквы. Амон никому не давала подойти, оскалившись, кричала: «Вперед! Прибавьте шаг! Не подходите! Не убивайте! Я мигом догоню! Не убивайте — я еще не отыскала мужа с сыном!» Ее ладони были вымазаны кровью, она махала путникам этими ладонями, и только оставив Амон далеко позади, люди понимали, что этот ее оскал, оказывается, был улыбкой. Улыбаясь, она просила пощады: «Не убивайте, я еще не отыскала мужа с сыном!» — облитую кровью руку Амон сжала в кулак и размахивала им вверх-вниз, в такт своему крику: «Впе-ред! Впе-ред!»
И голос ее был похож на звук рвущейся ткани…
Амон, которая позабыла о приличиях. Просто потому. что хотела отыскать своего ребенка.
Так же забыв о приличиях. Тацуру предстала перед сновавшими по станции пассажирами, одетая в черный плащ из рассыпанных по плечам волос и прокисшее, облепленное зелеными мухами платье.
Та станция с полчищами мух называлась Учан. Тацуру не знала, что по пути в Учан у состава несколько раз менялся локомотив. По надвигавшимся высоткам, жилым домам, тесным рядам электрических столбов Тацуру догадалась, что это большой город, даже больше, чем те два, в которых она успела пожить. Арбузы стали разгружать, вагон за вагоном. Скоро доберутся и до нее. Тацуру вдруг вспомнила, что съела, пустила на умывальники и ночные горшки несколько дюжин арбузов. И дети утащили с поезда сотню арбузов, не меньше. А счет за пропавшее добро предъявят ей. Чем докажешь, что не ты их съела, не ты попортила? Чем докажешь, что ты не в сговоре с шайкой, которая орудует у железной дороги? Небось, сбросила им арбузы, а потом разделишь наживу? Тацуру не знала, как в Китае за это наказывают, но ей было известно, что ни в одной стране на такие дела сквозь пальцы не смотрят.