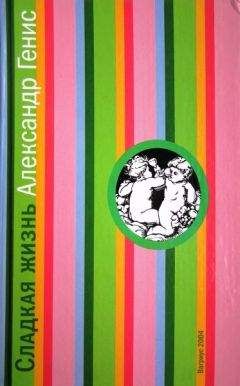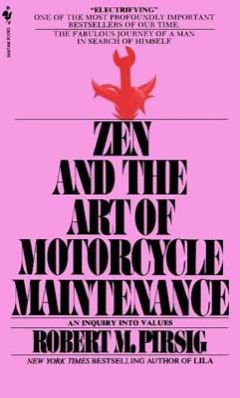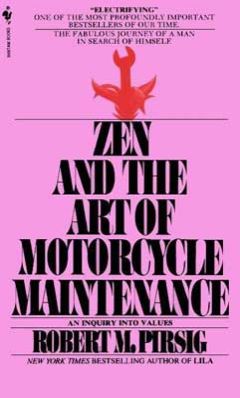Для Келвина общение с Океаном начинается раньше, чем он готов себе в этом признаться:
«Кожу на шее и спине начало жечь, ощущение тяжелого неподвижного взгляда становилось невыносимым. Я бессознательно втягивал голову в плечи и все сильнее опирался на стол. Комната была пуста».
Ощутив на себе тяжелый взгляд Соляриса, Келвин, еще того не зная, вступил в долгожданный Контакт с чужим разумом, но не на своих, а на его условиях. Все дальнейшее в романе — продолжение этого эксперимента.
Солярис общается с людьми точно так же, как люди с ним — втемную, на ощупь, не понимая, с кем имеет дело. Видя человека целиком, он не способен отделить рациональное от иррационального, разум от души и — что особенно важно — сон от яви. Все «жестокие чудеса» планеты начинаются ночью. «Океан, — объясняет Сарториус явление «гостей», — выуживает из нас рецепт производства во время сна. Океан полагает, что самое важное наше состояние — сон, и именно поэтому так поступает».
По-своему Солярис прав. Во сне, когда наше сознание срастается с подсознанием, мы вновь цельны. Лишь во сне человек адекватен себе. Спящий — тот, кто есть, а не тот, кем он хочет или может казаться. Понять всю мучительность этой ситуации Келвину помогает другая жертва эксперимента — Снаут, которого Солярис «наказал» еще сильней. Его «гость», о котором мы, впрочем, ничего не знаем, — материализация фантазии, а не реальности, пусть и прошедшей. «То, что произошло, — говорит Снаут, — может быть страшным, но страшнее всего то, что не происходило. Возьмем фетишиста, который влюбился, скажем, в клочок грязного белья. Такое случается, но ты, вероятно, понимаешь, что бывают и такие ситуации, которые никто не отважится представить себе наяву, о которых можно только подумать, и то в минуту опьянения, падения, безумия — называй, как хочешь. И слово становится плотью. Вот и все».
Это значит, что Солярис не отделяет действительность от вымысла, бывшее от небывшего. Океан сам творит свою реальность. Для него нет ничего невозможного — мысль и есть дело, слово и есть плоть. Судя нас по себе, он ничего не знает о той границе между мечтой и реальностью, которую мы считаем непреодолимой. Его неведение — признак ущербности, которая является обратной стороной всемогущества.
Концепция «ущербного Бога» — самый радикальный тезис в теологии «Соляриса». Эту еретическую идею, настолько озадачившую советских цензоров, что они ее выбросили из первого русского перевода романа, Келвин излагает в самом конце книги. Очищенный пережитыми страданиями от ученой спеси, он все прощает Океану, поняв, что тот не ведал, что творил. Келвин приблизился к пониманию Океана только тогда, когда научился ему сочувствовать:
«Это Бог, ограниченный в своем всеведении, всесилии, он ошибается в предсказаниях будущего своих начинаний. <…> Этот мой Бог — существо, лишенное множественного числа».
Одиночество делало Океан всемогущим. Добившись тотальной власти над средой, он стал ею. На Солярисе не было ничего, что не было бы Солярисом. В его мире не оставалось места для понятия Другого. Оно появилось вместе с людьми, которые открыли разумному Океану его ущербность. Солярис был Богом, пока не встретил человека. Проблема контакта для Соляриса еще более мучительна, чем для людей. Мы подготовлены к встрече своей историей — и биологией. Мы знаем, что мы — разные, Солярис знал, что он один. Единственное число чужого океана — того же порядка, что и нашего. Он не один среди многих, он один, как одна вода, какую бы форму она ни принимала.
Роман, учитывающий позицию Соляриса, приобретает новый смысл, а производство фантомных «гостей» — свою цель. Солярис изготовляет одних «людей» из других точно так же, как он творит из себя «симметриады» или «мимоиды». Эти гигантские конструкции — его плоть и дух, неотделимые от породившей их мыслящей протоплазмы. Они никогда не отделяются от Океана, не становятся Другим. То же происходит и с «гостями». Отростки подсознания, они — продолжение человека, неотделимые от него, как зеркальное отражение от оригинала.
Для Тарковского «гости» — овеществленная совесть, призраки, вызванные к жизни чувством вины. Но для Соляриса эти фантомные существа — посредники в диалоге. Сотворенные по человеческому подобию, они наделены нашей душой, но чужим телом. Двойственность их природы носит знаковый характер. Ничего не зная о человеке, Солярис имитирует его, демонстрируя свою готовность к информационному обмену. Любой разговор на незнакомом языке начинается с того, что мы подражаем чужой речи, не понимая ее значения. «Гости» — первые слова межпланетного диалога. Смутно догадываясь об этом, Снаут высказал предположение, которое Океан осуществил:
«Если бы мы могли создать симметриаду и бросили ее в Океан, зная архитектуру, технологию и строительные материалы, но не представляя себе, зачем, для чего она служит, что она для Океана».
«Гости», являющиеся людям, и есть такие «симметриады». Они — плод недоразумения. Океан, которому чуждо понятие индивидуальности, ничего не знает о любви, о рождении, о смерти. Поэтому созданные им «гости» повторяемы, неуязвимы и неуничтожаемы, как сам Океан. Ошибка Соляриса в том, что сотворенные по нашему образцу существа не могли не очеловечиться. Клон стал личностью, обзаведясь ее непременным атрибутом — свободой воли. Для Океана это должно было бы быть полной неожиданностью — как если бы пальцы обрели автономию, начав вести независимую от руки жизнь. Но нам удивляться нечему. Трагический эксперимент Соляриса — парафраза центрального парадокса теологии. Даже всемогущий Бог, создав свободного человека, не может предсказать последствия своего творения. Это делает Его ущербным, а нас несчастными.
— «Война и мир»? Я не читаю толстых книг, — сказал мне симпатичный американский прозаик, который прекрасно знал Бабеля и Булгакова, но про Толстого только слышал. (Впрочем, о нем в Америке слышали все. Прочесть «Войну и мир» считается здесь подвигом усидчивости. Предыдущий президент Буш хвастался избирателям, что справился с романом в семнадцать лет, воспитывая волю.)
— Но это, — бросился я выручать Толстого, — вовсе не длинная книга. И тут же осекся, ибо только что провел месяц, перечитывая четыре тома эпопеи. Правда была на моей стороне, но в застольном разговоре мне не удалось переубедить собеседника. Никто не скажет, что Толстой писал коротко, но его трудно назвать многословным. Читать «Войну и мир» — как ездить в отпуск: жалко, когда кончается.
С Достоевским — по-другому. Его нельзя читать медленно. Несколько лет назад меня угораздило открыть «Карамазовых», и три дня я не мог делать ничего другого. Роман, словно грипп, не отпускал, пока не кончился, и, только выздоровев, вспоминаешь (не без раздражения), как было.
Толстой никого не торопит. Действие у него накатывает волнами, но читатель их не замечает. Он держится на них, как щепка в открытом море. В «Войне и мире» не происходит ничего неожиданного. Здесь все случайно, но закономерно. В романе, кажется, нет слова «вдруг». У Достоевского одна кульминация переходит в другую, еще более сильную. У Толстого ни мы, ни герои не замечаем, как оказались в гуще событий. Они нарастают сами собой, по собственной внутренней логике, хотя Толстой и отказывает им в ней. Размеренный ритм скрадывает истинный размер эпопеи. Хотя сюжет юлит и вихрится, текст течет плавно.
Лучшие писатели XX века (скажем, Набоков) строят книгу из фраз, обладающих самодостаточностью и завершенностью. Любуясь собой, предложения выходят на страницу по очереди, как в концерте, и это делает необходимым антракт после выступления каждого солиста. Мы следим за виртуозом, затаив дыхание, что вынуждает перевести дух. Читатель «Войны и мира» дышит размеренно. Поэтому Толстого легко читать и трудно цитировать. Он тщательно избегает тех остроумных находок, что составляли гордость более поздних авторов. Толстой пренебрегал их «лавкой метафор», ибо лучшие из них сворачивают повествование, становясь анекдотом. Метафоры «Войны и мир» разворачиваются в неспешные притчи, вроде знаменитого дуба, дважды встреченного Болконским, или оставленной Москвы, напоминающей улей с мертвой маткой. Такие, по-эпически подробные и неспешные сравнения, не останавливают рассказ, а являются им, тогда как афоризм, каламбур, сентенция, блестящая метафора перегораживают поток речи. Не требуя продолжения, они с трудом соединяются друг с другом. Не зря Набоков превозносил Флобера именно за плавность перехода от фразы к фразе. Но у Толстого непрерывность речи, как вздох и выдох, органична, естественна. В жертву ей он сознательно приносит авторскую изобретательность. Об остроте ее свидетельствуют упрятанные в тексте находки. Вот, например, предложение, которое полюбил бы Довлатов: «Первый акт кончился, в партере все встали, перепутались, и стали ходить и выходить». А вот фраза, которой бы гордился Бабель; изнемогающие от жажды солдаты «бросались к колодцу, дрались за воду и выпивали ее до грязи». Слова, которые, конечно, не автор выделил курсивом, обладают таким потенциалом наглядности, что разрывают фразу, обесценивая соседей. Однако так сделанной прозы не может быть много. Тот же Бабель знал об этом лучше многих. Я, — говорил он, — могу описать два часа из жизни человека, Толстой — двадцать четыре.