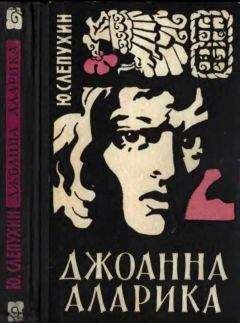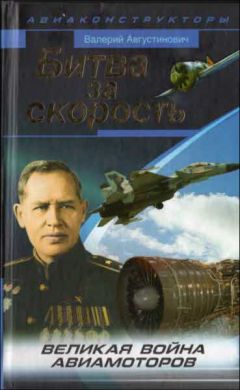— В чем дело? — недовольно спросил он, когда Хофбауэр вошел в комнату.
— «Виллис» выведен из строя, — доложил тот. — В радиаторе пробито отверстие. Кроме того, сорван карбюратор.
Дон Индалесио рванул неподатливую пуговицу.
— Идиоты! — он скрипнул зубами. — Сколько раз просил усилить охрану! Сегодня индейская сволочь портит машину, а завтра начнет стрелять в окна. Странно, что именно сегодня ночью… Расследуйте это дело, Энрике, а пока возьмите «миджет» сеньориты и поезжайте скорее, ради пречистой девы!
— «Миджета» в гараже нет, — так же спокойно сказал Хофбауэр.
Дон Индалесио, уже отошедший к зеркалу, медленно повернул голову.
— Что вы сказали? — хрипло спросил он, подходя вплотную к капатасу. — Вы еще не проснулись, что ли? Как это нет в гараже, когда я сам видел его там вчера вечером!
— Может быть. Но сейчас утро, — возразил Хофбауэр. — Если не верите, можете пойти и посмотреть.
Дон Индалесио не тронулся с места. Лицо его и вся коренастая фигура плотного пятидесятилетнего мужчины вдруг как-то обмякли, словно состарившись в одно мгновение на несколько лет. Постояв несколько секунд в оцепенении, он сделал шаг в сторону и тяжело опустился на постель, понурив коротко подстриженную, с проседью голову.
Сейчас. Он только посидит минуту, преодолеет эту непонятную и унизительную слабость. Но нет. Войти туда самому, своими глазами убедиться в… Нет! Пусть это трусость, слабость, он этого не сделает. Пусть другой сообщит ему эту новость, он тем временем к ней подготовится. Бог свидетель, сам он не может сейчас туда войти.
— Энрике, — сказал он вполголоса, не поднимая глаз. — Будьте добры пригласить ко мне сеньориту. Она, очевидно, еще спит, разбудите ее.
— Слушаю, — отозвался Хофбауэр. В дверях он остановился и глянул на патрона, продолжавшего сидеть в той же позе. — Простите, но… Может быть, не стоит?
— Ступайте, — хрипло, словно с натугой, сказал Монсон. — Бросьте деликатничать, если я посылаю вас в комнату моей дочери — значит, это прилично, будь то днем или ночью.
— Слушаю, — повторил старший капатас.
Он шел по коридору своим твердым и быстрым шагом, словно вбивая в пол каблуки. «Деликатничать», «прилично»! Старый пень вообразил себе, что он, шарфюрер Хайнрих Хофбауэр, стесняется войти в комнату к девушке, рискуя застать ее в постели. Кстати говоря, фрейлейн Монсон в своей постели сегодня не спала, можно держать пари. Именно это он и хотел сказать старику, а если тот не понял, тем хуже для него самого. Впрочем, возможно, старик обо всем уже догадался и просто делает вид…
Хофбауэр вошел в комнату сеньориты не постучавшись — смелость, которая могла бы стоить ему места, ошибись он в своем предположении, — толчком распахнул дверь и вошел так, как входил в такие же комнаты десять лет тому назад там, в Европе, в надвинутой на глаза каске, со своим «МП-38/40» под мышкой и серебряными молниями СС на петлицах. «Да, времена меняются, — подумал он, равнодушно оглядывая комнату, — но кое-что и остается неизменным. Хотя маши «партайгеноссе» и оказались во многом дураками, одного у них не отнимешь: они сумели разгадать смысл эпохи… И если бы Запад их в свое время послушал, ему не пришлось бы теперь — в Корее, в Индо-Китае, в Гватемале — иметь дело с той силой, которую можно было уничтожить еще под Сталинградом…»
Он постоял посреди комнаты, держась обеими руками за пояс и широко расставив ноги, оглядел книжные стеллажи, стол, диван, на котором поблескивала маленькая пишущая машинка; потом, пинком отшвырнув упавшую со стола книгу, подошел к алькову и раздернул занавес. Приготовленная постель, как он и думал, оказалась не тронута, на коврике аккуратно, как их поставила горничная, стояли туфельки, через спинку кресла была перекинута ночная рубашка. Ясно, девчонка и не ложилась. Подумать, что ей все же удалось разглядеть в сарае этот проклятый тюк… И как она вообще догадалась, что это такое!
Вообще любопытная штучка эта маленькая Монсон. Хофбауэр усмехнулся, взял с кресла ночную рубашку, подбросил и перехватил в воздухе невесомую струю нейлона. Интересно, что толкнуло ее на сторону красных? Девчонка выросла в роскоши, и вряд ли эта роскошь ей неприятна… если судить хотя бы по таким вот штучкам из ее гардероба. Влияние учителя? Да, скорее всего. Влюбленной кошке можно внушить что угодно, она будет повиноваться, даже не задумываясь. Конечно, учитель. Насчет учителя он давно говорил старику. Впрочем, тот и не возражал, тот сказал прямо: «Когда придет время сводить счеты, мы о нем позаботимся в первую очередь». Гм, если этот сеньор учитель не позаботится кое о ком еще раньше…
Он вернулся к Монсону. Тот встретил его сообщение так спокойно, что Хофбауэр понял: старик обо всем догадался с самого начала. Он даже почувствовал уважение к этому американцу; ничего не скажешь, держится как мужчина.
— Я могу ведь съездить и на мотоцикле, — сказал Хофбауэр, — это даже скорее. А старый Гарсиа приедет в своей машине.
— Что такое? — не сразу переспросил Монсон. — А… на мотоцикле. Да, конечно. Поезжайте, разумеется. Постарайтесь вернуться быстрее, вы будете мне нужны. Ваш мотоцикл в порядке?
— Нет, но я возьму у Освальдо его «харлей».
Через пять минут он пулей вылетел из ворот, сидя очень прямо в низком седле мощного военного мотоцикла. Утро вставало над холмами, ясное и радостное. Солнце уже зажгло кроны растущих вдоль шоссе высоких гравилий, встречный ветер обвевал лицо свежими запахами зелени и росы. Хофбауэр ничего этого не замечал, настроение у него было скверное — из-за пустяков, если вдуматься; и сознание того, что теперь пустяки могут влиять на его настроение, в свою очередь, было малоприятным. Когда-то он был тверже. Что делают с человеком эти тропики! Защитные очки он забыл, возвращаться не стоит — плохая примета, — но нужно быть ослом, чтобы в этой стране ездить на мотоцикле без очков. Да и вообще он не любил мотоциклов, а этой марки и подавно. Слишком уж она напоминает сорок пятый год в Мюнхене. «Харлей-дэвидсон» — на этих мощных, необычно низких мотоциклах ездили американские эм-пи. Мордастые сукины сыны в белых касках и с громадными автоматическими кольтами в белых кобурах, этакие моторизованные ковбои!
…Да, ему, в сущности, повезло. Конечно, здесь не Аргентина; но как-никак, а жаловаться эти семь лет ему было не на что. Куда труднее было там, в Бизонии, когда всякая сволочь за тобою охотилась. Правда, ему посчастливилось сразу попасть к Монсону, иначе тоже пришлось бы не сладко. А Бизонии уже никакой нет, теперь есть Федеративная республика — опять Германия, начинающийся Четвертый райх. Собственно говоря, какого черта он продолжает торчать в этой идиотской стране? Разве что занятно посмотреть, как кончит товарищ Арбенс?..
О чем это он недавно думал? Да, об этой американской штучке, о маленькой Монсон. Занятная девчонка! Он, по правде сказать, никогда таких не понимал. Видать видел и всякий раз становился в тупик. Такие попадались и во Франции, и в Чехословакии, и даже — раньше — в самой Германии. А теперь вот в Гватемале. Казалось бы, какая связь? Совершенно разные вещи. В Германии — в 33-м, 34-м годах — это была политическая борьба, во Франции — оккупация, здесь положение совсем не то. А общее есть. Где бы то ни было и под каким бы то ни было лозунгам, а борьба всегда одна и та же: по одну сторону те, что жрут, по другую — те, что работают. Все сводится к этому, как бы ни называли себя противники в каждый данный момент, эго непреложно. Это как земное тяготение: от него никуда не денешься, сколько ни прыгай…
Их движение с самого начала было движением жрущих, а не работающих. Неважно, что партия называлась «национал-социалистической»; вся ее политика, вся ее борьба сводилась к тому, чтобы не допустить рабочих к власти, сохранить господство за господами. Все двенадцать лет борьба шла именно за это; борьба в мюнхенских пивных и на улицах «красного Веддинга», борьба в английском небе и борьба в русских степях. Именно за это, сколько бы ни говорилось тогда о жизненном пространстве, расе господ и недочеловеках. По логике этой борьбы, по логике всей нашей эпохи капиталист самой что ни на есть неполноценной расы был нам ближе, чем самый стопроцентный ариец с коммунистическим партийным билетом в кармане.
Конечно, это не всегда проявлялось так уж явно, и через наши крематории прошла не одна сотня фабрикантов и банкиров; но это были издержки борьбы, а ведь, строго говоря, тот же французский фабрикант никогда не имел более надежной гарантии против всяких случайностей, чем германская армия в Париже. Случайности, и иногда довольно неприятные, могли произойти лично с ним, с этим самым фабрикантом, но не с системой, которая его породила и которой неразрывно определялась вся его жизнь, вся его деятельность и даже все его вкусы и привычки.