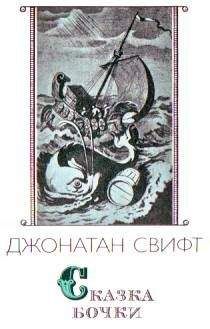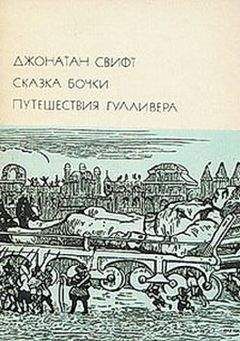Ну хорошо. Человек глядит на моего Эммануила и говорит: э, а ведь он не совсем белой расы, что это делается? Я скажу вам, что. Это жизнь делается. Вы имеете своих взглядов. Я имею своих. Жизнь не имеет взглядов.
Я отошел от этой Веры. Мне было неприятно рядом с ней. Сел на скамейку. Я вам не молодой петушок. Я уже кукарекаю только от случая и до случая. Устаю, наш Эммануильчик почти исключительно на мне. Миссис Зи большей частью сидит дома, ноги опухают. Сплошное наказанье.
Раз в метро не могла сойти на нужной остановке. Двери отворяются, она не может встать. И так, и этак (она немножко дама в теле). Обращается к малому с тетрадкой, крупный такой цветной детина: будьте добры, вы не поможете мне подняться. Так он ей: вы мне три сотни лет не давали подняться, ничего, посидите еще минут десять. Нетти, я спрашиваю, как ты не сказала ему, что у нас подрастает мальчишечка коричневый, как кофейное зерно. Нет, он прав, говорит Нетти. Мы таки не давали им подняться.
Мы? Что такое мы? У меня в сорок четвертом двух сестер и отца изжарили на ужин Гитлеру, а ты говоришь — мы?
Нетти садится. Принеси мне чайку, прошу тебя. Да, Изя, я говорю: мы.
Я со злости не могу даже поставить воду. Знаешь что, дорогая миссис, ты не в своем уме, как твои сумасшедшие тетки, как наша Циля. А куда ей было деваться, каждый из твоих родственников позаботился подкинуть ей генов. Нетти глядит на меня. Говорит: ай-яй-яй. Ойкать она отучилась. До того ассимилировалась, что теперь ай-яй-яйкает… Откуда у нее и это «мы». Зря ты надеешься, я говорю, что если записалась в одну компанию с Робертом Э. Ли[58], то уже стала американкой. Шутка, естественно, только вопрос, много ли в ней смешного.
А сейчас я устал. Немножко ослаб, что это заметно даже Вере. Как ей быть, размышляет. Решает все же, что прения не окончены, и подсаживается ко мне боком. На скамейке сыровато. Что вы хотите, апрель месяц.
Так как же насчет Цили? С ней все в порядке?
Вас не касается насчет Цили.
Хорошо. Она хочет уйти.
Стойте, куда вы! Если уж мне приходилось вас видеть в ночной рубашке, когда вы были молодая и красивая… Теперь она действительно встает. Наверное, она из бор-чих за женские права, такие не любят замечаний про ночные рубашки. Про халаты выслушала спокойно. И черт с ней! Пускай уходит… Но она возвращается. Прекратите, Изя, раз и навсегда, говорит она. Мне серьезно хочется знать. У Цили все в порядке?
Хочется ей. Циля в порядке. Живет с нами. Цветы поливает в квартире. Трудится с утра до вечера.
Хотя с какой стати я должен с ней миндальничать. О’кей, Вера, была не была, я вам выскажу, что же вы, люди, сотворили на мою голову! И вы еще спрашиваете, что с Цилей. Вы! Зачем вам? Ну пожалуйста. Вы помните, через недели две вы перестали устраивать пикеты. Почему, не знаю. Надоело? Или, возможно, время летнее, пора было ехать делать людям неприятности на взморье? Это я был привязан к городу. И разве я в те дни имел кондиционер? Вдруг вижу на улице Цилю. У нее тоже плакат. Вы, женщины, подали пример. Большой плакат бутербродом, прохаживается с ним взад-назад. Кто с ней заговорит, она только сжимает губы.
Я этого не помню, говорит Вера.
Конечно, вы уже укатили в это время на Лонг-Айленд, на Кейп-Код или, я знаю, на море, штат Нью-Джерси.
Нет, говорит она. Нет, ничего подобного. (Я вижу, для нее жуткое оскорбление, что она могла ездить на лето к морю.)
Я подумал тогда: хладнокровнее, Загровский. Потому что, факт есть факт, я не хотел, чтобы она уходила, потому что я если начал рассказывать, так уже должен досказать до конца. Держать в себе — это штуки не для меня. Рассказывай! Это немножко проветривает внутри — легкие сделаны, чтобы дышать, а не копить секреты. Моя жена никогда не расскажет, будет кашлять, кашлять. Целую ночь. Проснется: ай, Изя, открой окно, дышать нечем. Несчастная женщина, ты хочешь дышать, научись рассказывать.
Так я сказал этой Вере: пожалуйста, я отвечу насчет Цили, но вы мне выслушаете полный рассказ про то, как мы настрадались. Ничего, думал я. Пусть передаст потом по телефону остальным. Пусть знают, чего они добились.
Как мы ходили с нашей Цилей по врачам вплоть до первой знаменитости — я имел знакомства через аптеку. В больнице доктор Фрэнсис О’Коннел, толстый ирландец, не пожалел на нас с миссис Зи два часа, занятой человек. Он объяснил, что эта область одна из самых величайших загадок. Дремучий лес, самые светлые головы блуждают в потемках. Но все же, в моей специальности вы слышите то и се про разное лечение. Так ей одного массажа делали пятьдесят раз с головы до ног, чего только не перепробовали. Витамины пихали в нее, минералы — это уже посоветовал серьезный врач.
Хорошо, если давалась — бывало, что закроет рот, и никаких. Родную мать обзывала неприличными словами. Мы к этому не привыкли. И каждое утро, как на работу, марширует взад-назад перед аптекой. Хоть выплачивай жалованье по минимальной ставке. А послеобеденная работа — ходить из угла в угол за моей женой и попрекать, каких обид от нее натерпелась в детстве. Месяца два прошло, вдруг ни с того ни с сего ударилась петь. У нее дивный голос. Брала уроки у известного педагога. Под Рождество всю неделю исполняет у входа в аптеку половину «Мессии» Генделя. Вам знакома эта вещица? Так и прекрасно, думаете вы. Да, изумительно. Но только где вы были, что не заметили, что она без пальто? Не разглядели, что у нее носки спадают с ног, когда ходит взад-назад? Лицо и руки как у техника-смотрителя из подвала. И поет! Поет! Две вещи особенно: одна — как неверные увидят свет, вторая — «Внемлите! Деве будет сын». Жена говорит: понятно, хочется замуж, как всякой женщине. Чепуха. Могла бы выйти сорок раз. Имела кучу кавалеров. Прямо-таки буквально кучу. Она поет, эти кретины хлопают, какой-то мерзавец орет ей: давай, Цилечка, давай! Чего давай? Кому? В другие дни она просто кричит.
Что кричит?
А? Я и забыл про вас. Что попало кричит. Кричит: расист! Кричит: он продает отравленные лекарства! Кричит: он косолапый, с ним невозможно танцевать! (Неправда, кстати, лишь бы меня осрамить перед всеми, просто глупо.) Народ кругом хохочет. Кто-то плохо расслышал: что? Что она сказала? Кричит: по проституткам шляешься! Опять неправда. А что однажды встретила меня с женщиной, так это была дальняя родственница из Израиля. Придумает тоже! Не голова, а мусорное ведро.
Мать как-то говорит ей: Цицеле, золотко, причешись ты, ради бога. За эти слова она дает матери затрещину. Я прихожу домой, я застаю далеко не первой молодости женщину с фонарем под каждым глазом и плюс с разбитым носом. Доктор сказал: это так полагается, раньше, чем у вашей дочери наступит улучшение, должно наступить ухудшение. Медицина, она знает. Направил нас в дивное место, больница в двух шагах за городской чертой — то ли Уэстчестер, то ли Бронкс, боюсь соврать, но метро, слава богу, туда доходит. Таким образом выяснилось, на что я столько лет откладывал деньги. Думал, на Флориду в старости, прогуливаться в рабочие дни под пальмами. Ошибочка. Оказалось, на Цилю, поместить красавицу дочь в чудную обстановку к таким же ненормальным.
Мало-помалу она становится спокойнее. Нас пускают к ней. Показывает, где у них кондитерская, мы оставляем ей пару долларов; скоро наша жизнь принимает вот какой вид. Три раза в неделю ездит жена, садится на метро и везет чего-нибудь вкусненького (кроме сладкого, они противники сахара), везет ей какую-нибудь приятную вещичку, платочек, кофточку — в подарок, вы меня понимаете, в знак любви. И раз в неделю езжу я, но на меня она смотреть не хочет. Как голубкй мы с ней были, такие близкие, — вы можете себе представить, что я переживаю. Хотя вы сами имеете детей, так вы должны знать: маленькие дети — маленькие неприятности, большие дети — большие неприятности — есть такая пословица в идиш. Вполне возможно, что у китайцев она тоже есть.
Ох, Изя. Как это могло случиться? Внезапно, вдруг. Не было никаких признаков?
Что с ней, с этой Верой? У нее слезы на глазах. Как видно, чувствительная. Мне понятно, о чем она думает. Ее дети сейчас подростки. Вроде пока нормальные, а что потом? Каждый думает о себе. Человеческая натура. Спасибо хоть не говорит, что это жена виновата или я. Я совершил чего-то ужасное! Любил своего ребенка. Знаю я, как у людей работает мысль. В психологии разбираюсь очень неплохо. Подковал себя в этой области за время, пока мы мыкаемся с дочерью.
Ох, Изя…
Она кладет мне руку на колено. Я смотрю на нее. Может быть, она того? Или, возможно, просто видит во мне старика (а что, почти так оно и есть). На это я скажу одно, слава богу, что нам дана голова. Голова — единственное место, где вы можете сохранять молодость, когда другое место приходит в негодность. Почему-то она чмокает меня в щеку. Чудачка.
Вера, у меня все же не укладывается, за что вы с подругами сделали мне такую гадость?
Но ведь мы были правы.