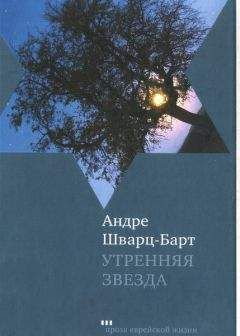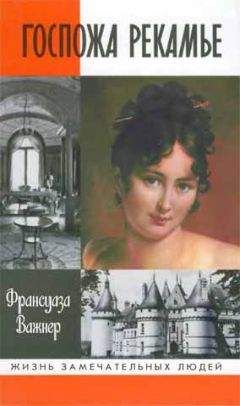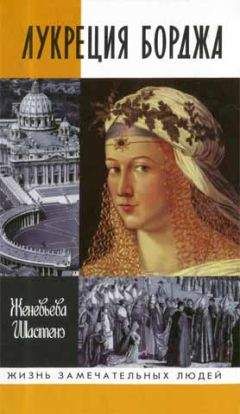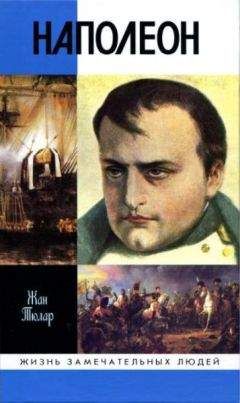В заключение он напоминал: все взрывы звезд, как показали астрономические наблюдения, происходили на определенной стадии развития живого вещества. И знание об этом ничего не меняло: любой «побег» человека, любое галактическое странствие приведет его все к тому же финальному свиданию со смертью.
Тут наступала очередь Алексиса: приняв эстафету, он заводил речь о так называемой желтой опасности. После неудачи Японии, пытавшейся унифицировать Азию, Китай, собравшийся взвалить на себя эту задачу, наверняка преуспеет и будет грозить Западу, утверждал он, а тот в поисках нового Карла Великого вновь станет почитать Гитлера как непонятого героя. Столкновения Азии с Западом продлятся следующую тысячу лет. Австралия, Африка, Латинская Америка станут кровавыми рубежами этих стычек. Люди вскоре начнут сражаться на Луне и остальных планетах, по крайней мере, если Земля не взорвется раньше.
Что до Марко, он, тыча пальцем вверх, грозил самому небу, провозглашая, что, если бы Бог был всемогущим, Ему пришлось бы принять на Себя ответственность за творящиеся на Земле беды вплоть до агонии птички, смерти насекомого или какой-нибудь не видимой глазом микроскопической твари. Он еще чувствовал на себе следы медицинских экспериментов, перенесенных в Освенциме, и мысленно добивал палачей, заявляя, что они суть воплощенное ничто, просто-напросто безымянные звери, а потому какая-нибудь мушка имеет столько же прав на существование, как Шекспир. Конечный вывод из подобных рассуждений его заботил лишь постольку-поскольку, ибо в действительности индивид — не более чем плод иллюзии, а что тогда?
— Тогда все возможно, а если все возможно, то все и позволено, — договаривал кто-нибудь из них.
— Ну, нет уж: все позволено, кроме того, чтобы чиркнуть спичкой в день шабата, — шутливо ронял кто-нибудь из присутствующих, на этом споры зачастую прекращались, и все в задумчивости расходились по своим комнатам.
Но однажды летним вечером Марко познакомился в танцевальном зале с очаровательной девушкой, и она, увидев на его руке татуировку с освенцимским лагерным номером, сказала, что тоже еврейка. Он же, собственно говоря, уже не воспринимал себя как еврея, о чем ей и сообщил, попутно изложив свои воззрения на сей предмет в духе описанных дискуссий. Молодая особа ужаснулась, побледнела и ответила, что ему надо бы проявить к ней больше почтительности: разве не воплощает каждая пара восстановление разрушенного Храма? Тут же прямо посреди вальса она рассталась с ним и исчезла, растворилась, как призрак. Именно в этот момент ему открылось, что он — не вполне никто и каждый человек является кем-то.
— Друзья, — неистовствовал он, — как вы допустили, чтобы я столько ядовитой мути впихивал вам в мозги своими историями о микробах, за которых Всевышний в ответе?
И тут он в первый раз заговорил откровенно. Рассказал, что, когда его распределили в лагерный спецсектор, он однажды увидел кучу трупов, уже превратившихся в сплошную гниющую массу. До этого он всегда угадывал в каждом мертвеце его прошлое живое воплощение, но с этого дня перестал. Все принялись его утешать, а он продолжал твердить, что люди должны пользоваться равным почтением, без конца повторял, что он уже не безликое нечто, и наконец в неописуемом волнении провозгласил, что снова считает себя евреем. Тут окружающие заулыбались, стали напевать что-то смешное и весело проводили Марко в его номер, а на обратном пути Рахель воскликнула:
— Знаете что? У меня такое чувство, что он ожил!
— Ты хочешь сказать, — спросил Хаим, — что до сих пор он был мертв?
— Вот именно.
Все дружно закивали: до них тоже дошло, что раньше он был мертв.
Однако на следующий день Марко выбросился с девятого этажа, а вскоре Рахель и Давид сообщили, что уезжают в Израиль: она ждала ребенка.
Хаим не знал, что и думать о людях, о детях, о себе самом. Им владела безмерная усталость, он тонул в тысячах им же подобранных документов, журнальных подшивок о Холокосте, о звездах, об истории людей после их расселения по Земле, листал описания всех насилий и зверств, содеянных от начала времен, книги по еврейской истории, работы о книгах по еврейской истории, перечитывал любимых поэтов и писателей.
Однажды он решил, что ему надо уехать.
Святой, как говорят, это человек, который простил Богу… ах! Простить Богу — это так сладостно!
Суфийская мудрость
1
Какое-то время Хаим жил в Гвиане и Африке, а затем обосновался на Антильских островах. Там он сначала выпустил две-три книжки, но то было раньше, а теперь он вел жизнь шлемиля — неудачника, человека, потерявшего свою тень. Однако вместе с тенью он утратил и свое «Я» и походил на «Одинокую мулатку», героиню своего романа, посвященного времени, когда живого прототипа Одинокой еще не было на свете. Он носил в сердце траур по литературе и по себе самому. Было ли то следствием неких парижских происшествий? Сомнения нет: душевная рана не заживала. Ведь какая это привилегия — иметь духовную родню, братьев по разуму! Как это поддерживает в обыденной жизни, каким светом ее наполняет! Теперь он осиротел, друзья были далеко, и он в одиночку нес на своих плечах мрак мира сего и хаос собственной ночи.
Имелось ли в умах и сердцах людских то пристанище свободы, которое позволяло бы им отстраняться от всех существующих и даже мыслимых условностей?
Хаим допускал эту возможность, но полной уверенности не было. Он сам не знал, каким муравьем был в общем муравейнике, но многие из встреченных им на жизненном пути наперекор благопристойной наружности происходили из рода муравьев-каннибалов. Хаим ощущал себя на земле словно бы гостем, а не полноправным хозяином, он жил, казалось, среди обитателей мира, совершенно ему чуждого, однако другого у него не было. Но как он мог считать такой мир своим?
Всю жизнь Хаим пытался рассказать об Освенциме, но у него не получалось. Возможно ли объяснить, какое там небо? И как выглядят горы трупов, что происходит с душой при этом зрелище? Или просто — описать, как там протекает один самый обычный день? Нет. Французский для этого не создан, да и где найдешь человеческий язык, которому такое под силу? Барьер слишком высок, вернее, это целая полоса препятствий, то реальных, то воображаемых, притом в дело вмешивается как читательское воображение, так и авторское. Имелись и проблемы чисто литературные, хотя об их существовании он догадался в самую последнюю очередь, перечитывая написанное им «Жаркое из свинины». В той мере, в какой литература обращается к людям, желает быть ими понятой, она, описывая ужасы, должна подлаживаться к запросам и возможностям сердца человеческого, проявлять гуманность по отношению к нему. А следовательно, урезать пространство тьмы, давать больше прав свету, чтобы оставшиеся темные места выглядели терпимее для нормального читателя, когда тот лежит или сидит с книгой, посасывая сигару или грызя орешки. Все так.
У него скопилось два чемодана рукописей, которые он всюду таскал за собой. Испробовал тысячи подходов, и так и сяк пытался приблизиться к планете по имени Освенцим, но никогда не доходил до цели: каждый раз, едва начинал писать о мертвых, его одолевал стыд и он уничтожал написанное. Там, среди пляжей и волн, Хаим ощущал себя пчелой, потерявшей свой улей, и думал: «Одиноких пчел не бывает. Значит, она уже мертва».
2
Первое же письмо, полученное от Давида, вернуло его в Освенцим, в тот памятный миг, когда перед его глазами возник чудесный мирок под окуляром микроскопа, и, повинуясь прихоти, скорее всего рожденной одиночеством, но сверх того — живой, ощутимой почти на ощупь дружеской связью, нерушимой наперекор разделяющим их океанам, он принялся составлять маленькое примечание к воображаемой книге, которое и отослал Давиду.
Примечание к воображаемой книге
Повествователь приступает к этому рассказу в то время, когда ученым удалось обнаружить бесчисленное множество иных цивилизаций, нарождающихся и клонящихся к закату, чья жизнь равна долям секунды и протекает в наших телах и в телах животных. Явление, которое мы, руководствуясь здешними масштабами, называем болезнью, на том уровне можно было бы уподобить космическим катастрофам. Нарушение клеточного баланса при раковом заболевании сравнимо с состоянием после атомной войны, происходившей в околоклеточном мире, который достиг вершин своего технического совершенства. А некоторые таинственные нарушения в деятельности человеческого ума сопоставимы с последствиями взрывов сверхновых звезд в галактике соседнего ганглия.
Отсюда трудности в попытках наладить связи с этими сообществами.
Благодаря системе чувствительных датчиков, действующих на микроскопическом уровне в интервалы времени, измеряемые миллиардными долями секунды, удалось сфотографировать много последовательных состояний (сопоставимых с нашими тысячелетними временными периодами) целого города, разместившегося в определенном нейроне: в клетке нервного волокна, расположенной на уровне третьего позвонка в теле одного турецкого поэта по имени Саид-эль-Арам.