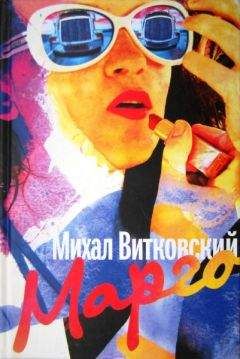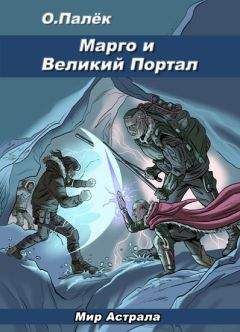— Все меня здесь шпыняют, толкают, кофе из пластикового стаканчика на праздничную белую блузку выливают, задевают, вот и проливается, в конце концов, есть здесь программа выступлений? Когда мой выход? Какую песню я буду петь? О Родине, о восстановлении Варшавы или о соловьях? А может, «Очи черные»? Или что-то из испанского репертуара? Молодой человек, — хватает она за фалды какого-то типа из Варшавы, — немедленно объясните мне, что и как!
— А как ваша фамилия?
Она побледнела.
— Как это — как моя фамилия? — И напела самую известную свою песню. — Вот как моя фамилия! Достаточно?
— Прошу прощения, ошибочка вышла, потому что, к сожалению, ансамбль «Мазовше»[121] сегодня не выступает, кто-то ввел вас в заблуждение…
А мы со Звездой летим, что есть мочи, прячемся за динамиками, нас душит смех, мы заходимся от хохота. В жизни так не смеялись. То и дело прыскали смехом. Ансамбль песни и танца «Мазовше», я не могу! Помру со смеха! «Кукует кукушка, где моя подружка»!
— Это она с коммуняками колбасу на гриле жарила, — язвит моя Звезда. — Она как-то раз и для Терека пела, у нее были апартаменты такие и такие, дачу получила на море в районе Злодеево, а теперь… Ха-ха-ха. Умоляю тебя, Вальди, скажи им, что это специальный гость, прямо из Варшавы, и что если она не выступит, то мы тоже не будем выступать, она должна с этими своими двумя бородавками на лице, которые у Чучела выскочили за время медийного отсутствия, с этим изуродованным подбородком пойти туда и спеть! Умоляю тебя, я тебе потом сделаю за это то, что ты просил, помнишь… Я тебя познакомлю… ну, сам знаешь с кем. И дам тебе ботинки от Папроцкого. Лишь бы она сегодня выступила! Тунайт!
Иду к самому главному режиссеру и сценаристу. Говорю, что так, мол, и так, что пани X приехала к нам из Варшавы, из Брудно или из Таргувека, кошмарная, дескать, ошибка, что-то там на Воронича[122] перепутали, ну и теперь негоже отступать, пусть уж в самом конце, когда все упьются и вообще выйдут из эфира, она споет что-нибудь из репертуара Ирены Сантор[123] или Славы Пшибыльской[124]… «Помнишь, была осень». Он согласился, а нам со Звездой вот-вот выходить. Уже «Стакан воды» Беаты Козидрак разносится над Городом Встреч.
Тем временем моя Звезда сталкивается лицом к лицу с Чучелом и спрашивает куда-то поверх ее головы:
— Неужели таких сюда еще приглашают? Не знала я, что сегодня у них еще и концерт динозавров. Я-то думала, что это чучело давно уже на По-вонзках, и это еще в лучшем случае, а то, если по заслугам, то скорее на Угольной Вольке[125], в этих кладбищенских трущобах, где никого приличного не похоронят.
Чучело так обалдело, что просто расплакалось, и на него напал приступ икоты. Если бы у него была паста, оно не полезло бы за словом в карман, но достаточно было взглянуть на меня и на Звезду, как мы лучезарили молодостью, один первой, вторая какой-то там очередной, осетрина, хоть и второй свежести, но ведь все-таки свежести, едрёнть, и как чудесно мы выглядели, чтобы оно радикально лишилось дара речи.
— Вот, — гремела за кулисами моя Звезда, — вот как кончают копии, и как держится оригинал, пожалте — ни следа варикоза! Клиника доктора Альвареса в Испании. Посмотрите, как все отсосано (дон Педро в Аргентине)! Посмотрите, какая шея (пан Владя, Анин)!
А Моя на самом деле выглядела прекрасно. На ней был плотно облегающий избавленное от лишнего жира тело черный костюм, утыканный елочными лампочками, красными, белыми и желтыми, которые должны были в нужный момент на ней загореться надписью «Пиво такое-то и такое приветствует вас в Новом Году». Надпись длинная, так что вся она была облеплена лампочками, точно елка. Сапоги в белых лампочках, имитирующих бриллианты, выше колен, очень развратные. Так что если бы отключили электричество, то вся бы эта электрическая звезда в прямом смысле слова погасла бы. На ней было боа из птичьих перьев («Галерея Мокотув», три тысячи), волосы прилизаны, покрыты лаком и посыпаны брокатом, зубы словно жемчуг, щеки как коллаген, лоб как ботокс, губы как пол-Варшавы, по крайней мере как улица Пулавская, глаза сияли, как Оксигенатор[126] в солнечный день, а в ушах ничего, ноль украшений. Она сама была украшением и выглядела (издалека) как прекрасно сохранившаяся тридцатипятилетняя женщина, так что спокойно могла бы выступать в рекламе «Ирены Эрис 35+»[127].
Со сцены до нас доходят вой и крик, слова благодарности, произносимые с иностранным акцентом: я люблю вас, я люблю нас, я всех люблю!
Подходит ко мне кто-то из группы, подключает микропорты, чипы, суфлера вставляет мне в ухо, в котором я буду слушать замечания сценаристов, поправляет аппарат с кровью, еще раз показывает, где нажимать, чтобы расхуячило на все стороны света как бомба. Я там в нашей палатке за кулисами только летаю по орбите, которая отмечена: туалетом, потому что от нервов меня пронесло, кофе на кейтеринге в углу палатки из пластиковых — а то как же! — стаканчиков, потому что пластик это фамильный фарфор нашего времени, это останется после нас. Ну и большое зеркало, перед которым я сажусь и все меня постоянно поправляют, что у меня все это уже на морде наслаивается и трескается, как земля в засуху. Слышу, как другие стараются быть здесь самыми важными, самыми остроумными, растормошить зрителя, к каким примитивным приемчикам они прибегают, как подлизываются к этим мещанам.
Идем в направлении сцены, откуда долетают крики: «Пойте с нами! Вроцлав, только на это тебя хватает?!» Под сцену ведет винтовая лестница, я спускаюсь, а там стоит этот кошмарный бокал, спонсированный Окнами и Дверями, Кирпичем и что там у них еще. Дверцы бокала раскрываются. Я влезаю, и тут же микропорт на заднице задевает за створку, отрывается, я должен его снова зацепить. Звукорежиссер проверяет фоны, раз-два, раз-два, как меня слышно? Оглохну, не ори так! Тетки еще по лесенке входят ко мне наверх и поправляют лачком, пудрой, потому что всё в прямом эфире. Бокал закрывается надо мной, как тюльпан.
Тем временем с контрольного монитора до меня доходят крики, а это моя Звезда, как особа уже — как ни говори — в пожилом возрасте боится быть подвешенной наверху. Что меня, однако, больше не волнует, потому как что-то меня давит в зад. То плоская бутылочка лежит на дне бокала, какой-то гуманный техник мне подсунул ее. Принимаю приличную порцию и тогда мне начинает казаться, что представление отменят, а я так и останусь лежать на дне, Звезда будет висеть надо мной, ибо сказано в священных книгах, что звезды должны быть на небе. И я напророчил, потому что висеть ей предстояло, ой, висеть!
На мониторчике вижу, как Томаш Каммель с Гражиной Торбицкой жмут теперь на педаль пафоса, становится жарко, полдвенадцатого, теперь пойдут самые крупные звезды, безумие, шампанское, самое дорогое рекламное время, сырки, плитка и чипсы. Оставайтесь с нами!
Глава девятнадцатая: падение
На контрольном мониторе вижу, что Звезда, висевшая где-то там высоко, наверху, то ли на Ясе, то ли на Малгосе[128], начала нервно крутиться, трепыхаться, а поскольку на ней было боа из птичьих перьев, она выглядела, как пойманная птица. Тогда я услышал, как меня объявляют, что, дескать, вот он, наш гвоздь программы, громкие аплодисменты, включилась музыка, я в бокале шевелю губами, пердя от нервов что есть сил, потому что бокал стал тревожно подрагивать и подаваться вверх. О боже! Какие аплодисменты! Действует-таки паста! Легко привстаю и делаю вид, что пою, лесенка открывается, моя улыбка, их аплодисменты, я тихонечко схожу и точнехонько в нужный момент ставлю ногу на пол, а передо мною операторы с камерами идут назад. Свет бьет мне в глаза, и куда ни глянь — везде лес голов и Город Встреч, в котором год 2009-й встречается сегодня с годом 2010-м.
— Приветствую любимый Вроцлав, пястовский, немецкий и польский, и европейский — любой! — (Кто-то орет: «Вальди!») — Это ты, вроцлавская публика, лучшая из всех! В эту одну-единственную ночь я желаю всем вам быть еще богаче, чтобы у вас было еще больше торговых галерей, «ИКЕЙ», чтобы ваши дома стали еще красивей, чтобы вы оснастили их еще более современным оборудованием, и чтобы исчезли некоторые районы. И вообще — любите друг друга!
Потом местные СМИ углядели в моем пожелании много намеков, взбешенные официальные лица и Ратуша говорили, что районы, которые я упомянул, вообще не принадлежали Городу Встреч, вообще не существовали. Потому что самые плохие дома — это не мы, это нам противные немцы построили.
Тем временем оказывается, что Звезду, которая вертелась на тросе над Вроцлавом точно Вифлеемская звезда, так от верчения в этой машинерии заклинило, и так она запуталась и замерзла, что не может спуститься. Ей уже пора съезжать, а она никак не съезжает, а ведь баба должна петь со мной припев, фонограмма-то с ней записана! Моей Звезде наверху гораздо холоднее, вихри веют такие, что она почти не шевелится, а зрителям снизу не видно, и думают они, что это какая-то реклама или декорация, которая загорится огонечками, когда пробьет двенадцать.