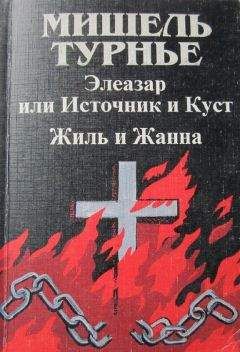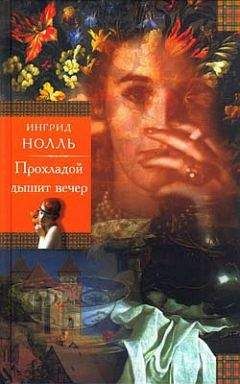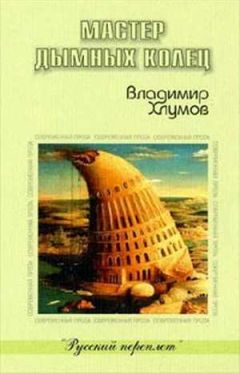Пьеса получила название «Особое назначение» с подзаголовком «Завенягин в Норильске». Но до пьесы было еще далеко. Норильск строили зэки, многие сидели по пятьдесят восьмой статье, политические. Заключенными были почти все инженеры, ближайшие сотрудники Завенягина. И никуда от этого не уйти.
– Может, сделать всех такими, серенькими? – неуверенно предложил Кошелев. – Норильчане поймут.
Но он и сам сознавал, это не выход, все равно вранье. А врать не хотелось. Нужно было искать какое-то другое решение. И мы нашли. Авария (они в те годы шли одна за другой). Один из заключенных гибнет. Не из главных героев, просто один из. Один из двухсот тысяч безымянных зэков, на костях которых возводился Норильск. Бригадники стоят, молчат. Молчит Завенягин. И из этого молчания рождается мощнейшая музыкальная тема – реквием Верди:
«Грянул реквием Верди, та часть его, «Туба мирум», в которой, как пишут музыковеды, «грозные фанфары, возвещающие час мировой катастрофы, звучат все ближе и ближе. В момент наивысшего напряжения вступает величественная мрачная фраза хора. Напряженное звучание хора и оркестра обрывается резко и неожиданно, сменяясь приглушенным замиранием соло баса в ритме похоронного марша». И когда были отпеты и оплаканы все, кто отдал свои жизни, чтобы вдохнуть жизнь в эти мерзлые тундры, и все, кто свои жизни еще отдаст, в кабинете Завенягина, наполненном призрачным светом затухающего полярного дня, появляется Орджоникидзе – таким, каким помнил его Завенягин в лучшие, самые счастливые минуты своей жизни…» Спектакль придумался. Остальное было делом техники. Кошелев улетел в Норильск, а я на несколько месяцев погрузился в прошлое, воссоздавая его так, как я это прошлое тогда понимал.
Весной 1938 года тревожно было в Москве. Ночами в доме правительства на набережной Москвы-реки половина окон были чёрными, мёртвыми, а в другой половине свет гасили только в четыре утра. Если до этого времени не приехали, то сегодня уже не приедут. Чёрные «воронки» с Лубянки подъезжали к дому правительства ночью. Огромный дом замирал, в просторных квартирах напряжённо прислушивались ко всем звукам в гулком каменном дворе: к работе моторов, к хлопанью автомобильных дверей. Утром узнавали, кого увезли.
Звонок в квартиру первого заместителя наркома тяжелой промышленности, кандидата в члены Центрального Комитета партии, депутата Верховного Совета СССР Авраамия Павловича Завенягина раздался в два часа ночи. Он понял: вот и пришёл его час. К этому шло. Сразу не сложились отношения с Кагановичем, ставшим наркомом тяжелой промышленности после смерти Орджоникидзе. Завенягин считался человеком Серго, а у того с Кагановичем была давняя взаимная неприязнь. Ситуация обострилась после того как Завенягин узнал об аресте академика Губкина, обвиненного во вредительстве. Более нелепого обвинения невозможно было представить. Завенягин заканчивал Горную академию, ректором которой был Губкин, хорошо знал Ивана Михайловича, учился у него и много лет тесно сотрудничал, работая ректором Московского института стали и сплавов, а позже директором проектного института «Гипромез» в Ленинграде. И вот – вредитель.
Завенягин по вертушке позвонил Сталину, зная, что это вопиющее нарушение субординации. Сталин молча выслушал его и положил трубку. Академика Губкина освободили, а через несколько дней нарком Каганович отстранил своего первого зама от работы. Теперь нужно было ждать ареста.
В квартире было тихо. В детской спали дочь Женя и сын Юлий. В спальне тоже не было света, но Мария Александровна, жена Завенягина, не спала, она тоже ждала звонка. В кабинете на письменном столе, освещенном настольной лампой, не было ни одной бумажки. Все документы были заранее уничтожены. Но Завенягин знал, что это его не спасёт. Что нужно, то и найдут. Ещё были очень свежи в памяти большие московские процессы. Их было три. Главными обвиняемыми на первом процессе в августе 1936 года были Зиновьев и Каменев. Второй процесс над Радеком, Пятаковым, Сокольниковым и другими членами «Параллельного антисоветского троцкистского центра» состоялся в январе 1937 года. Главными фигурами третьего процесса в марте 1938 года, совсем недавно, стали бывший глава Коминтерна Бухарин и бывший председатель Совнаркома Рыков. На всех трёх процессах Завенягин сидел в партере Колонного зала Дома Союзов и слушал, как подсудимые обвиняют себя в немыслимых, чудовищных преступлениях. Зиновьев: «Мой изощренный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришёл к фашизму». Каменев: «Я требую для себя расстрела». Ветераны партии, организаторы революции, соратники Ленина – шпионы? Как это понимать?
Лишь однажды в ходе третьего процесса произошла заминка, когда Крестинский, заместитель Молотова по Наркомату иностранных дел, член ленинского ЦК, заявил: «Я не совершил ни одного из тех преступлений, которые мне вменяются». Но уже на следующее утро он отрёкся от своих слов: «Прошу суд зафиксировать моё заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным. Вчера под минутным чувством ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых, я не в состоянии был сказать правду».
Вся Москва была ошеломлена. Ходили самые дикие слухи. Говорили, что на процессе были не обвиняемые, а их двойники. Ещё говорили, что осуждённых не расстреляли, как было объявлено, а сослали в закрытый город, где они живут на всём готовом. Это как бы их плата за ту роль, которую они послушно исполнили в процессах. Но Завенягин знал – всех расстреляли. И «любимца партии» Бухарина, и «золотое перо партии» Радека, и бывшего наркома НКВД Ягоду, организатора первого процесса. Для себя он понял одно: этой страшной силе невозможно противостоять. Те редкие люди, которые побывали в жерновах этой чудовищной машины и чудом сумели из них вырваться, говорили: «Подпишешь – четвертак, не подпишешь – вышка». Завенягин старался не думать, как он поступит, ещё будет время об этом подумать.
И вот – ночной звонок, которого он ждал так напряженно, что сейчас даже почувствовал облегчение. Кончилось ожидание.
Он сменил домашнюю куртку на пиджак и вышел из кабинета. На пороге спальни появилась Мария Александровна, негромко спросила:
– Я открою?
– Нет, это за мной. Успокой детей.
Звонок повторился. Завенягин открыл дверь. Он ожидал увидеть на лестничной площадке чекистов в кожаных фуражках и перепуганных понятых. Но перед дверью стоял только один человек в военной форме с кубарями младшего командира в петлицах.
– Товарищ Завенягин? Вам пакет. Распишитесь.
В кабинете он вскрыл пакет. В нём был всего один листок с запиской от руки. В ней сообщалось: «Завтра в 14.00 состоится заседание Совнаркома. Ваше присутствие обязательно». Подпись: Каганович.
Заседания Совета Народных Комиссаров СССР проходили в Кремле, в зале на втором этаже бывшего Сената, в котором ещё со времен переезда правительства из Петрограда в Москву размещался Совнарком и где, как было известно только узкому кругу посвященных, находился кабинет Сталина. Вёл заседания председатель Совнаркома Молотов. Рядом с ним за массивным столом на невысоком помосте сидели члены правительства. В зале с расположенными амфитеатром креслами – заместители наркомов, сотрудники их секретариатов и вызванные на совещание специалисты. Сталин обычно неторопливо прохаживался позади президиума – в полувоенном френче, в мягких кавказских сапогах без каблуков, с незажженной трубкой в руке.
Так было и на этот раз. Но уже в фойе, где обычно ответственные работники обменивались новостями, Завенягин почувствовал себя изгоем. Его сторонились, как прокажённого. В зале он сел в заднем ряду, кресла рядом с ним так и остались пустыми. Начало заседания он прослушал вполуха, напряженно пытаясь угадать, что его ждёт, но так и не понял. Наконец Молотов повернулся к Кагановичу:
– Прошу, Лазарь Моисеевич.
Нарком поднялся во весь свой немалый рост, внимательно оглядел зал. Увидев в заднем ряду Завенягина, удовлетворенно кивнул.
– Мы получили сведения о крайне неудовлетворительном положении на строительстве Норильского комбината, – начал он. – План первых четырёх месяцев этого года выполнен на десять процентов. Это означает, что стройка стоит. По начальнику Норильлага Матвееву мы уже приняли решение. А вот кем его заменить – вопрос. Управление кадрами предложило несколько кандидатур. Некоторые товарищи наотрез отказались, других отклонили мы… Иосиф Виссарионович, вы хотите что-то сказать? – прервался Каганович, заметив жест Сталина.
– Да, скажу. – Сталин остановился у стола, заглянул в папку с документами. – Мы сейчас обсуждаем кандидатуры… ищем человека, который мог бы возглавить строительство… – Снова заглянул в бумаги. – Норильского горно-металлургического комбината. Как доложил нам нарком Каганович, предложения товарищей из Управления кадрами не могут быть приняты. И у меня появилась мысль… у нас же есть такой человек! Талантливый инженер, крупный организатор промышленности, все мы его хорошо знаем и ценим. Я говорю о товарище Завенягине. Как заместитель наркома он должен присутствовать на этом заседании… он здесь?