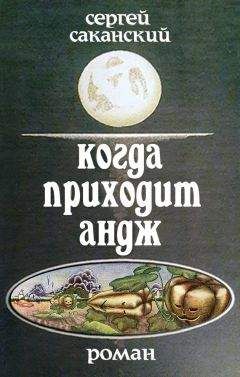Жан не верил своим глазам: это были листы его романа! Но как… Жан посмотрел вверх. На краю крыши, вся в солнечных бликах, широко размахивая руками, сидела Анжела и сеяла, сеяла его листы, а из-за ее плеча выглядывал Лешка, ее одноклассник и сосед.
— Хо-хо-хо!
— Хэ-хэ-хэ!
— Хы-хы-хы!
Вчера он торжественно вручил Анжеле готовую рукопись, ее титульный лист с инициалами посвящения теперь лежал под его ногами, мертвым голубем…
— Нет, ты только послушай, — сказала Анжела, обернувшись через плечо, и, держа уже вырванную страницу на отлете, давясь от смеха, стала читать:
— Жан изучил свое новое жилье — приподнял графин с маленьким солнцем в цилиндре воды — умора! Заглянул в платяной шкаф, и шкаф показал ему большое подвижное зеркало, которое, если закрывать дверцу, бесцеремонно глотало призму пространства с окном, полным шевелящейся листвы и света… Какой маразм! Жан откинул одеяло, словно открыл конверт с долгожданным письмом, пощупал живую женственную упругость подушек, разделся, лег — это он звукописью выебывается, на «же» и на «у» — и едва стало исчезать внешнее, уступая все более материальному внутреннему, и милый образ Марии — буква какая-то хохляцкая — сформировался на расстоянии вытянутой руки… Пошляк.
Анжела размахнулась и выпустила очередного голубя, свежего, только что сделанного Лешкой.
— Матом еще ругается, — с обидой в голосе сказала она.
— Запятые после скобок не ставит, — сказал Лешка, выглядывая из-за ее спины.
— Слова какие-то свои придумывает, будто ему нашего языка мало.
— Всякие там темно-голубой, ярко-розовый — без дефиса пишет, думает, так красивше.
— Эротика у него нездоровая, вроде как пособие по онанизму.
— И мысли никакой, все пустота, пустота…
— Или рисунки возьми… Тухлые какие-то рисунки, аж глаза на лоб лезут.
— А то наоборот: долу глаза опускаются.
— Или вовсе никаких глаз нету…
— А цитаты, заметь! Цитирует, а в кавычки не ставит, как бы свое…
— А эти бесконечные повторения? Одни и те же слова, сцены, из главы в главу…
— Да и юмор мягко говоря, странный… Совершенно не смешно.
— Своим юмором он просто оскорбляет читателя, тычет его мордой в гавно, как Кутузов какой-то…
— А убийства? Он постоянно кого-то на дуэль вызывает, убивает — студента убил, профессора, даже школьника.
— Да что там школьника! Он Ленина убил…
— И Сталина…
— Да что там Сталина! Он Господа Бога убил…
— И распял…
— И самолет, полный людей, в лужу бросил.
— И водокачку нашу взорвал!
— Это он просто сам скоро сдохнет, почему и о смерти пишет.
— Он все это лишь для себя пишет, никому это вовсе и не нужно.
— Ноги он на ночь не моет, вот что.
— Зубы не чистит.
— Жопу не вытирает.
— И ваще, это ни на что не похоже, это не проза, это просто обман, поэтому его никогда и не напечатают, поэтому мы и делаем из него голубей, кхе…
— Как это ни на что непохоже? Да он просто подражает Набокову! — вскричала Анжела.
— И Пастернаку, Пастернаку, — закивал Лешка, — помнишь? «В трюмо испаряется чашка какао…» Этот тип — просто сумасшедший. Да, он умеет писать и все такое… Но весь этот роман, покажи его психиатру, всего лишь расширенный самодиагноз, так-то… Его надо просто убить, уничтожить, чтобы он больше не морочил нам голову. Он ведь просто наркоман, алкоголик.
— Да он же наркоман! — запрыгала вдруг на крыше Анжела, по звериному, на ногах и руках запрыгала…
— Наркоман должен быть найден, — строго сказал Андж, жестикулируя ладонью. — Вероятно, это тот, который в комнате сидит, который курит табак, который, спички ворует, который дома не ночует.
Жан повернулся и пошел, гребя ногами опавшую листву. В его жизни только и остался один-единственный жест — повернуться и уйти…
Поднявшись до трассы и перейдя ее, Жан оказался в можжевеловом лесу, где крепко пахло целебной смолой, и дурман этот окончательно успокоил его.
Уйти навсегда. Никогда больше не видеть людей, не знать их историй, никого не замечать, ни с кем не здороваться, жить, как бы надев на голову ведро, весь день блуждать по лесу, а ночью строчить и строчить. И не показывать никому.
Так начиналась весна, цветение конского миндаля, Жан гулял, нагуливая строки нового романа, вечерами записывал в новую, в том же книжном магазине купленную тетрадь…
С некоторых пор он стал замечать на своих тропах странные, ничем не объяснимые изменения: в одном месте кто-то копал яму, словно собирался зарыть собаку, начал и бросил, правда, через два дня яма была явно углублена… Жан полюбопытствовал вокруг и обнаружил спрятанные в корнях можжевельника кирку и лопату со следами свежей земли. Может быть, тут ищут клад? Романтично, забавно… Вот бы встретить этого человека, вдруг он единственный и есть — такой же как я?
Как-то раз он увидел вдали на Тарахтарской тропе Лешку. Неожиданно для самого себя Жан обрадовался, ускорил шаг, даже призывно засвистал… Оглянувшись, Лешка коротко сплюнул и исчез в кустах. Не узнал, испугался? Может быть, именно он ищет клад?
— Лешка, привет, а я тебя видел вчера, в лесу, ты что, не помнишь?
Лешка сплюнул сквозь зубы, так же как и вчера.
— Я не шатаюсь один по лесу, как некоторые.
— Но ведь не мог же ты мне показаться?
— Коль еще разик покажется, перекрестись.
Была за всем этим тайна — жуткая, волнующая, будто не от мира сего, будто, перепутав пространства, прямо на его глазах разворачивалась длинная метафора…
И был камень, огромный камень, который нависал высоко над обрывом, и который — при помощи хорошо известного архимедового рычага — можно было удачно, прицельно…
Жан давно обратил внимание на то, что камень этот стал выступать из скалы немного дальше. Движимый своим несчастным любопытством, Жан поднялся на скалу с другой, более пологой ее стороны, и увидел.
Совсем недавно вокруг этого камня велись какие-то работы: земля была подкопана, под самое основание камня была проведена толстая буковая жердь…
Жан приник к камню, ощупал его ладонями. Камень был теплый, шершавый, казалось, энергия разогревает его изнутри, Жан трепетно осязал это орудие смерти, чувствуя, как горячие, острые слезы царапают щеки, с грустным шипением падают в сухую траву…
Однажды, стоя как раз под странным камнем, близоруко щурясь, чтобы разглядеть, не изменилось ли что на скале, Жан ясно увидел, как камень сдвинулся с места и медленно покатился вниз. Зрелище было настолько завораживающим, что Жан даже и не тронулся с места, глядя, как камень легко увлекает за собой другие, поменьше, и уже подпрыгивает, словно от нетерпения, набирая скорость, приближаясь с неотвратимостью смерти, и превращаясь, собственно, в саму смерть.
Суть же сна о первом убийстве была такова. Много лет подряд Лешка видел, как, тужась, раскачивает свое буковое бревно, но древесина не выдерживает, инерция влечет Лешку вниз, и крича, кувыркаясь, катится он по крутому склону, мимо неподвижно стоящего, завороженного зрелищем Жана — живого, вслух читающего свои бездарные стихи, а за его хилой спиной стоит, вся такая зеленая, с золотистыми глазами — ужасная Убивайя…
Утром вагон представлял светлый, полный бликов и радуг объем, прозрачный насквозь на обе стороны, и уже под Москвой Лешка вдруг снова увидел одинокий дом невидимки, столб и раскрывшуюся дверь.
Препротивный проводник, парень из Симфера, потянул Лешку за хвост: надо было немедленно сдать постель. Сон его нимало не разнежил, пассажиры были собраны, торжественны, застегнуты на все пуговицы, скоро ли Москва, спросил Лешка, да вот же она, сказал один, по столице идем, сказал другой, хорошо идем, — и Лешка увидел за окном грязнорозовые заборы, гигантские маслянистые лужи, ползающие по земле и прыгающие в небеса трубопроводы, черные человеческие фигуры в окнах и на крышах домов, темнокирпичные пороховые погреба, колонны грязных солдат, марширующих в баню, и навстречу, из бани — чистых, причесанных солдат, какую-то широкую реку с переломанными шеями портовых кранов, узкую речку с белокаменной обшарпанной крепостью на высоком берегу, сотню влажных на ощупь рельсовых путей, дохлую собаку — Лешка не мог узнать в этом сорокаминутном промышленном квартале столицу своего государства.
Вдруг совсем близко замелькали шагающие люди — экспресс вполз под черную крышу, дернулся и встал. Лешка вышел, с удивлением осматривая местность поверх голов. Местность была плоской, заставленной разнокалиберными, как попало построенными зданиями, более высокими, чем в Ялте и Симфере, но столь же запущенными, давно не крашенными, во многих окнах не хватало стекол, проемы были небрежно зашиты фанерой, всюду были корявые надписи — «Абба», «RAP», «AC/DC», «Хуй» — в подворотнях, в нишах, в укромных уголках за телефонными будками — темнели потеки, мужские и женские, валялся крупный и мелкий мусор, окурки, пакеты из-под молока, банки из-под пива, выпитые яйца, кал… Редкие больные деревья, памятники с головы до плеч, карнизы — все сплошь было засрано голубиным гуано, по улицам быстро, пошатываясь, толкая друг друга и отвязываясь матом, двигались бледные люди с злыми, невыразительными лицами, часто попадались онцы — менты и служащие армии…