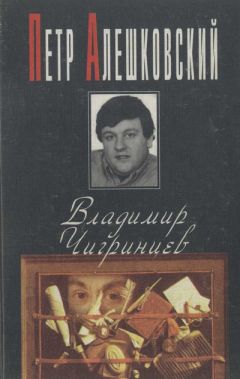— Егерь-то, егерь, не опасно? — спрашивает молодой совсем, первый раз, видно, допущенный, сивый парень.
— Егерей теперь по херу мешалкой, как нас, родный мой, — отвечает ему запростецки толстенький и добродушный в пиджачишке и галстуке селедкой.
— Глава наш, местной администрации хозяин, — шепотом сообщают Воле, — сперва не хотел идти, но упросили — третью неделю с нами гуляет.
Из-за леса раздается сиплый гудок. В черном дыму появляется допотопная дрезина. На длинном тросе за ней, на платформе, новенький шестисотый «мерседес».
— Во немец сработал!
— Не по нам сделано!
— Господская штучка, видно сразу!
— А мощь, мощь, как у секача, я прошлый раз весь патронташ рассадил, пока его уговорили!
— Сказывают, рамная машина, и расход у ей — хоть до Москвы без остановки!
— Ты и завернешь, без остановки, а цилиндров-то двенадцать горшков, жрет, что твой комбайн.
Влекомая дрезиной, платформа медленно приближается, на дальних номерах начинают постреливать. Собака воет все сильнее, тоскливый и злой вой ее продолжается всю недолгую охоту. Брызгами летит стекло, блестящие бока покрываются рваными ранами.
— На убой крепок, под низ, под низ наподдай! — летят над цепью советы.
— А говорил — рамный! — с хохотом перезаряжая ружье, кричит сивый парень, посылая вдогон изрешеченному остову заряд картечи.
Наконец чей-то мастерский выстрел сбивает покореженную машину с платформы. Пес махом слетает с командной высоты, исчезает в овраге за насыпью, где упал «мерседес». В наступившей тишине слышно его урчанье, в воздух взлетают поролон, резиновые коврики, куски обшивки сидений. Наконец и там все затихает.
— Напиться ему надо, — скупо комментируют происходящее. Мужики вытирают со лба пот, надевают шапки, сдают оружие специальным собирающим из молодежи.
— По клюкву! По клюкву, родные мои! — раздается блеющий голос Огурца. Откуда-то сбоку выныривает черный упырь, замирает, как лагерная тварь на краю колонны. От него противно несет бензином.
Все выходят на вспаханное поле. Появляются молодые, что собирали ружья, несут тяжелые короба с клюквой, раздают всем пригоршнями спелую красную ягоду в специальные туески.
— Давай! А и мать ее яти! А жалко, что ль? — кричат, подогревая себя со всех сторон.
— Жалко, родные, очень жалко, но надо Владыку потешить, — блеет Огурец и, дико взвизгнув, принимается расшвыривать клюкву вокруг себя.
Все следуют его примеру.
— А теперь вприсядку, родные мои, за меня постарайтесь, болею же, артрит замучил, — не унимается Огурец.
Разошедшихся мужиков не надо уже и упрашивать — начинается дикий пляс. Красные брызги летят во все стороны, пачкают одежду, лица, руки.
— Эх, за Катю, да за Катю, да за Катю-Катю-Катю! — выпевают мужики в остервенении, давят чавкающую землю. Молодые все подсыпают и подсыпают под ноги, пока поле не превращается в сплошной кровавый кисель. Жуткая собака следует сзади процессии, носом подгоняет отстающих, теснит их к дальнему лесу. Чигринцев стоит, где застыл, возле кромки поля, смотрит.
Вдруг откуда ни возьмись на поле высыпает разношерстная собачья свадьба. Бобики, Лихаи, Дозоры, Громы, шавки без роду-племени, нечесаные, в репьях, уродливоногие, кривобокие, преследуют зажимающую хвостом зад маленькую, утомленную сучку. Стая трехает по липкому клюквенному полю, кружит, время от времени собаки меняются в цепи местами, порыкивают на конкурентов, но не отводят нацеленных носов от заветной, славно пахнущей заводилы. Наконец утомленная сучка ложится, собаки пристраиваются рядом, радостно щерят рты, с распаренных языков капает теплая тягучая слюна.
Черный кобель, гонящий по лесу стадо мужиков, останавливается, нервно тянет носом воздух. Оборачивается, подмечает свадебный кортеж. Вмиг с него слетает вся осанистость, на глазах он превращается в обыкновенного драного кобеля. Все мигом забыв, мчит через поле к своим.
Его встречают предупреждающим рыком, и он покорно занимает место где-то в хвосте кавалькады, нетерпеливо скулит, обнюхивая зад выродившемуся полуболонистому ублюдку. Тот, как заведено, не обращает внимания на заднего, дрожит всем телом, морщинистой шеей тянется вперед. Прилегшая было сука встает, семенит куда-то прочь. Вся процессия следует за ней и скоро исчезает в ближайшем овраге. Черный кобель с белым горлом, скуля и повизгивая от нетерпения, догоняет их вприпрыжку.
Чигринцев остался один, приплясывающие мужики почти слились с лесом. Почему-то страшно обернуться назад. Наконец, сделав над собой усилие, оборачивается. Весь деревенский скот собрался сзади, смотрит сквозь него укоризненно, жует молчаливую жвачку, блестит глупыми печальными зрачками. За ним, у самой околицы, стоят красивые и разные женщины в чистых праздничных одеждах. Они машут исчезающим мужичкам белоснежными платочками. Некоторые умильно плачут, некоторые ласково и робко улыбаются, некоторые сосредоточенны, слегка отрешенны, как на старых довоенных фотографиях.
7
Чуть начало светать, Воля был на ногах. Часа два, что проспал у костра, не прибавили сил — тело ломило, голова соображала туго. На счастье, нашелся в кармашке рюкзака компас. Оглядел место невольного заточения — болото как болото: длинное, сухое, издалека, из низины, крякали утки, там, всего скорей, была лужа или ямина. Разворошил догорающие уголья, пошел по стрелке к неблизкому просыпающемуся лесу.
Часа полтора брел, сверяясь с компасом, и легко вышел на знакомое ячменное поле — отсюда до Бобров было рукой подать. Выходит, ночевал он в Падушевском болоте, где когда-то повесился «шалый князь», где Профессор с Верой Анисимовной наблюдали летающую на огненном колесе ведьму.
Дома затопил печку, завалился спать. Сквозь сон слышал, как топал в сенях Борис, что-то спрашивал, интересовался, наверное, походом, но в ответ промычал нечленораздельно — отсыпался за все сполна.
Разбудил стук в дверь, вежливый, но настойчивый. Присел на кровати, крикнул:
— Входи, кто там!
На пороге нарисовался вчерашний дедка, робко вытер о половик домашние валенки без галош.
— Можно?
— Входи, входи. — Еще не отойдя ото сна, не веря яви, Чигринцев тупо глядел на него.
— Ну, горе-охотник, признал? Пора и знакомиться… — На морщинистом, вполне миролюбивом личике застыла хитрая улыбка.
Воля вскочил, протянул руку.
— Дядя Ваня, или Иван Ильич, как хочешь. Что ты счумел вчера, чуть Волка моего не угрохал? — Покряхтывая, присел на табурет, дежурная улыбочка не сходила с лица.
— Не знаю, не знаю, дядя Ваня, пригрезилось, извини.
Чтобы скрыть неловкость, вышел в сени, схватил бутыль со спиртом, вполовину уговоренную Борей, внес в избу.
— Давай за знакомство, только пожрать не готовил.
— Угощаешь, ну-ну, — протянул знакомым гнусавым голосом сосед. — Я и думал: зайду, прознаю. А как ты сиганул-то. — Он прищурился, зашелся мелким, противным смехом. — Как сиганул, я кричал, кричал — куда там. Ночевал, что ль, в лесу?
— Ага, — смущенно подтвердил Чигринцев.
— Ну, айда ко мне, сварганим поесть, всякого добра ведь море. Пока сын не приехал, я бобылем живу, много ли надо. А за спирт — спасибо, не откажусь никогда и еще и отблагодарю. Иван Ильич, верь, в долгу не останется, не Бося-нищета. — Он презрительно поглядел в сторону Валентининого дома.
Перешли овраг. За домом в заулке забрехали сидящие на цепи две матерые лайки. В одном кобеле Воля признал своего хорошего знакомого.
— А я ходил поглядеть, в Пылаихе же лось, кабан вечно стоят, — как будто Воля специально спрашивал, пояснил Чекист, многозначительно уставясь на Чигринцева. — Тоже небось, а иначе что там искать?
— Хотел, да без собаки — пустое дело, — соврал Чигринцев.
— Погоди, скоро сын приедет, настреляетесь, ему только лес и нужен, я-то уже не тот.
Воля вспомнил про оставшихся рябчиков, принес их. Пока варился бульон, Чекист показал свое хозяйство: большую избу на две комнаты, высокую, вместительную баню, сарай с инструментами, дровник. Откровенно бахвалился, напирал, что у горе-Боси, как звал соседа, никогда ничего под рукой не найти. И правда, все здесь подчинено было воинскому порядку, лежало на отведенных местах.
Сели за стол, дважды опорожнили стопки. Ивана Ильича быстро забрало: маленький, сухой, верткий как угорь, на водку был он не сильно крепок, как и полагается пьянице со стажем, но до выпивки жаден — не пропускал: чем больше пил, тем больше бахвалился. Кинул пробный шар, сообщил горделивым шепотом, что служил на Дальнем Востоке в НКВД. Видя, что Воля готов слушать, пошел травить байки. Сначала охотничьи. Где и кого только не пострелял: гусей бил на Ямале — полуторкой вывозили, на медведя ходил, как в магазин за пряником. География его путешествий разрасталась пропорционально падающему уровню в бутылке. Всю страну пасло его недреманное око.