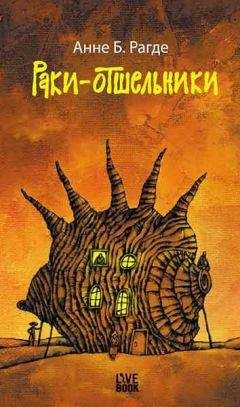Отец кивнул.
— И не звони Маргидо.
— Хорошо.
— Завтра я поправлюсь. Не стоит его этим нагружать.
— Да.
И тут она вышла, эта Марит Бонсет, села в машину, пальто застряло в дверце, пришлось ее открыть и снова захлопнуть.
— Закройте окно, — попросила она. — Будет слишком холодно, когда поедем. У вас жар? Или озноб? Вполне может быть от шока.
— Я в порядке. Езжайте, — сказал он и поднял стекло. Она поехала. Ловко и решительно на поворотах. Какое-то время он смотрел прямо, потом стал изучать клетчатое полотенце на бедре. Сквозь ткань просачивалась кровь, стекая на коврик под сиденьем. Коврик был пластиковый, но через маленькую дырочку, кровь протечет на пол. Он посмотрел на нее, она быстро перехватила его взгляд.
— Все в порядке? — спросила она.
— У меня никогда не было помощника, — сказал он. — Это правда, я не хвастаюсь.
— Все когда-то происходит впервые, — ответила она. Ее руки на руле были испачканы кровью, та запеклась глубоко под ногтями.
— Простите за беспокойство, — сказал он. — Я испачкаю сиденье.
— Ничего страшного, расслабьтесь.
— И я не выпивал, — добавил он.
— Я из крестьянского рода и не вчера родилась. И не собираюсь ни с кем это обсуждать. Я работаю на вас, всякое может случиться. Могло быть и хуже.
На это он мог горячо возразить, но решил промолчать, вместо этого закрыл глаза и постарался не думать о крысах и пустых бутылках.
Он зашел в ближайшую закусочную, заказал двойной эспрессо, бутылку минералки и чиабатту с салями, фетой и маслинами. Парень за стойкой был молодым чернокожим, с накачанным прессом, проступающим сквозь обтягивающую черную однотонную футболку с крошечным логотипом «Левис» на рукаве. Узкие джинсы, тонкие длинные пальцы. Они казались сильными, как у пианиста. Никаких колец, ни на пальцах, ни в ушах, он выглядел чистым, ничем не замаранным. Эрленду от одного его вида стало лучше, но все равно он тяжело вздохнул, когда чернокожее чудо подошло с едой и напитками на круглом черном подносе и оставило все, включая чек, на столе перед ним. Он обожал эти длинные до колен передники, которые носили стильные официанты, завязки скручены в хвостик, наподобие булочки с корицей.
— Вот это вздох! Мир рушится? А я и не заметил.
— Да. Рушится, — подтвердил Эрленд и взял чек, сделал вид, что рассматривает его. — А как бы вы себя чувствовали, если бы в самый будничный дерьмовенький денек двадцать четвертого февраля узнали, что ваш придурок старший брат далеко на севере, в Норвегии, на запущенном хуторе разрубил себе ногу и впридачу расплодил крыс? И, возможно, в довершение ко всему еще и спился, потому что вы подарили ему на Рождество датскую горькую настойку?
— Вот уж, тридцать три несчастья!
Эрленд коротко взглянул на него. Он что, заигрывает? Парень ответил на его улыбку. Нет, к сожалению, улыбка выдавала стопроцентного натурала. Еще один пункт в список причин для глубокой депрессии.
— Можно сказать и так, все тридцать три, — ответил Эрленд и попробовал эспрессо.
— Так это ваш последний обед перед тем, как вы возьмете дудочку и отправитесь ловить крыс?
— Вы с ума сошли! Я туда не собираюсь.
— Может, стоило бы. На одной ноге много крыс не поймаешь.
— У меня есть еще один брат. Там же, на севере. Он этим занимается. И какого черта я порчу себе день, рассказывая все это? Проклятье…
— По-моему, вам не помешало бы выпить коньяку с кофе. Сейчас принесу. За счет заведения.
— Но сейчас всего два часа дня, — возразил Эрленд.
— Где-то на планете уже девять вечера.
— В Шанхае.
— Правда?
— Да. Просто уверен. Тогда несите, спасибо! А поскольку я пью двойной эспрессо, то мне нужен двойной коньяк, — сказал Эрленд. — Второй я, разумеется, оплачу сам. То есть… одну целую рюмку. И, кстати, могу и вас угостить, если составите мне компанию.
— У меня кончается смена.
— Ну вот, видите. Замечательно. Поторопитесь.
Ему очень хотелось поговорить с незнакомцем. Это все равно что позвонить по телефону доверия, где безликие голоса спасают людей от самоубийств, абортов или от убийства топором своих ближних. Задумавшись, он зачислил себя во все три категории, хотя аборт скорее заключался в том, что он противился опрометчивому зачатию.
— Ты вы, значит, из Норвегии?
— Нет. Я когда-то жил в Норвегии. Теперь живу здесь. И зовут меня Эрленд.
— А я — Йоргес. Из Алжира, через Францию, где я жил много лет в Париже. Вы были в Париже? — спросил он и протянул руку для знакомства. Рука на ощупь была такая же, как на вид — сильная, теплая и потенциально ужасно решительная. При желании она могла бы играть венгерские рапсодии Брамса до утра.
— Я отравился как-то белужьей икрой в ресторане в торговом комплексе «Лез Алль», — ответил Эрленд и притянул руку к себе, исключительно благодаря моногамной силе воли. — Вот и все, что у меня связано с Парижем. Унитаз и узор на кафеле в гостиничном сортире, он был черный, белый и светло-серый. Мне больше по душе Нью-Йорк и Лондон. Французы меня ужасно утомляют, они кричат, размахивают руками и напоминают жителей Бергена, впрочем, ты о бергенцах ничего не знаешь, а за всеми этими криками ничего не стоит, понимаешь? Не бери на свой счет. Да и по-датски ты говоришь почти идеально, Йоргес.
— Спасибо. И еще я гетеросексуален.
— Это я сразу же понял, увы. Но все равно я немного кокетничаю, это просто у меня в природе. Так что тоже не бери это на свой счет. Кстати, очень жаль, что ты снял этот передник. Он был тебе просто фантастически к лицу.
— Я же закончил смену в два.
— Но передник тебе идет. Носи его круглосуточно. Даже в постели. Передник и больше ничего.
Йоргес засмеялся, обнажив такие белые зубы, что Эрленду захотелось снабдить солнцезащитными очками всех, кто наблюдал это зрелище. Небо у Йоргеса было розовое в бороздках, как у кошки.
— Теперь ты кокетничаешь, — сказал Эрленд и сглотнул.
— Я просто смеялся!
— Это одно и то же. Когда ты вот так смеешься во весь рот.
— Окей. Больше не буду. Значит, твой брат отрубил себе ногу? Звучит страшно. А ее нашли? Отрубленную ногу?
— Нет, он ее не полностью отрубил, но прорубил почти до кости. Его положили вчера в больницу и не выпускают. А у него истерика оттого, что придется провести в палате несколько дней, когда ему надо домой, к свиньям, он свиновод.
— Неужели не найдется помощников?
— Найдется, но ему это не нравится. Свиньи — это все, что у него есть.
— И братья.
— Ну да. Но и здесь скрываются несчастья. Правда, они закопаны. Под дохлой собакой, которую нельзя часто тревожить. Но давай же выпьем, красавчик!
— Выпьем!
Он наслаждался тем, как Йоргес прикоснулся губами к краешку бокала. Его черные кудри блестели так сильно, будто облитые лаком, одна кудряшка зацепилась за мочку уха.
— Еще мне кажется то, что ты рассказал о настойке, подаренной на Рождество, попахивает скрытым прогрессирующим алкоголизмом, — сказал Йоргес и опустил бокал на стол.
— Отец сболтнул. Вообще-то он мне не отец, но он сболтнул брату.
— Он не твой отец?
— Нет. Сводный брат. И он сболтнул моему родному брату, а тот поискал в свинарнике и нашел пустые бутылки в шкафу. И в уличном туалете.
— Так он выпивает в свинарнике? Как нехорошо! Это что, принято в Норвегии?
— Он не мог выпивать в доме из-за матери.
— А она, часом, тебе не сводная сестра?
— Нет. Но там, на хуторе, нельзя выпивать прилюдно. Правда.
— Принесу-ка я еще коньяку.
— Давай. И не забудь надеть передник. Ты же, можно сказать, опять работаешь.
Эрленд откинулся на спинку стула. К еде он не притронулся, чиабатта казалась черствой, выглядывающие из нее кусочки салями были темными, блестящими, со съежившимися краями. Вообще-то он шел домой, когда позвонил Маргидо. И Маргидо был так взбешен, что шутить насчет Нового года и свидания показалось совершенно неуместным. Витрина канцелярского магазина теперь была деликатно украшена японской бумагой ручной выделки, каллиграфическими перьями и японскими иероглифами, которые ему выдавили и покрыли шелковым красно-черным напылением на рисовой бумаге, служившей фоном витрины. Единственным украшением была простая белая орхидея. Витрина была крошечной, туда помещалось очень мало, но хозяева хотели качественного оформления, и кому же еще звонят в таких случаях, как не Эрленду Несхову. Другие бы перегрузили витрину донельзя, как раз потому, что она была маленькой.
— Вот, пожалуйста, еще один двойной, — сказал Йоргес. — Только почему ты не ешь?
— Еда кажется засохшей.
— Прошу прощения. Бутерброд сделали в девять часов.
— Это заметно.
— По-моему, тебе надо поехать к брату. С отрубленными ногами, крысами и алкоголизмом не шутят.