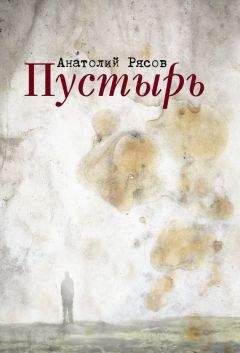Лукьян осознал, что странная встреча с бродягой вместо того, чтобы возвысить его в собственных глазах, оказалась для него еще большим унижением, чем то, какое он мог себе вообразить. Его трясло от ярости при мысли о том, что он равновелик любому жителю Волглого, но тут было другое наказание, куда более уничижительное: он был не ровня этому истрепку, он был много ниже его. Здесь было слишком далеко даже до зачатков общения, но это не Елисей не способен был на разговор, как могло показаться на первый взгляд, а Лукьян не мог возвыситься до этого проходимца, ведь священнику не дано было выучить его язык безмолвия. В этой ситуации возможность быть услышанным заведомо исключалась. Невосполнимая пустота, которую оставляли оставшиеся без ответов вопросы – тишина невозможности ответа оборачивалась внутренним удушьем. Этот несостоявшийся диалог был столь никчемно замкнутым, столь обреченным на ежеминутное возвращение к отправной точке, что Лукьян продал бы, наверное, свою душу за ответ на вопрос, почему это так происходило, почему, несмотря на всё внешнее превосходство, священник был для бродяги планетой другого масштаба, кружащей в захолустье низшей галактики, мелким лакеем, чьи невзгоды не могли возбудить в нем участия, неприметной пылью, на которую не было причин обращать внимания. Лукьян вглядывался в него словно в старую рукопись, написанную на незнакомом, зашифрованном и закрытом для понимания языке.
И всё же временами ему казалось, что всё это могло быть искусной игрой, и что за несрываемой маской безразличия скрывалась издевательская насмешка. Ведь временами бродяга всё же различал его из лона своей вселенной, или, во всяком случае, делал вид, что различает. Иногда оборачивался на голос, принимал одежду и пищу. Но казалось, что он ведет какую-то игру, и это притворство было недоступно для разума. Да, было какое-то искусно спрятанное ехидство, то и дело указывавшее на то, что он уже почти приблизился к пониманию. И это застывшее в безвременье «почти» было самым мучительным эпизодом невыносимого приключения, делало мечту в высшей степени неосуществимой.
Тут Лукьян побагровел от злости, на его висках веревками вздулись вены, изо рта вырвалось наружу частое хриплое дыхание, выпученные глаза сверкали, а жирные красные щеки истошно тряслись. Намек на ответ вроде бы был найден, но он не принес облегчения, и в который раз священник оказался оттеснен в непролазные глубины собственного подсознания теми же самыми мыслями, которые, как казалось еще секунду назад, были способны вызволить его оттуда. Его мысли оказались вовсе не твердой опорой, но лишь сгустками тумана, мутным шёпотом, оседавшим на стенках его черепа. Он корчился в отчаянии от собственного бессилия. Если бы он был способен контролировать свои движения, он запустил бы в Елисея какой-нибудь кружкой или поленом, но сейчас руки не послушались бы команды. Он трясся от бессильной злобы, не имея сил прекратить эту беззвучную истерию. И вдруг Елисей встал и, не взглянув на священника, отправился в свою комнату и закрыл за собой дверь. Этот поступок причинил Лукьяну еще более жгучую боль, заставил затрещать его рушившееся тело. Должно быть, ему захотелось теперь посмотреть, что происходило во дворе, сменить дозорный пост. Что, черт возьми, он будет высматривать там? Разглядывать ветки деревьев, наблюдать, как они двигаются, как машут ему своими почернелыми, сучковатыми ладонями, как карябают на небе какие-то надписи – не то приветствия, не то предостережения? А может быть, этот идиот вообще не отличал двух окон? Может быть, они казались ему одним и тем же окном, а его завороженность была лишь непониманием причин смены уличных декораций? Вдруг ему мерещилось, что пока он отвлекся, кто-то быстро успел поменять расположение предметов за окном? Или он думал, что вращается дом? Или, что вращалась вселенная вокруг дома? Почему в его вставании было заметно презрение? Может быть, в нем ничего и не было? Глядя на закрытую дверь, Лукьян бессильно вздохнул. Порог этой двери был для него пределом, добравшись до которого его чувства и мысли оказывались неспособны продвинуться дальше. Нервным движением пальцев он принялся подбирать со скатерти зачерствелые крошки.
Заглянув в кривые прозоры, Тихон приоткрыл дверцу, сбитую из тонких штакетин, и вдруг понял, что калитка учительницы – наверное, единственная не скрипящая во всем селе. Обычно все ворота Волглого при малейшем дуновении ветра издавали такой жалобный стон, словно выли от нестерпимой боли, хранимой вывихнутыми суставами петель. Здесь же тишину нарушал только шелест веток смородины, пожухлые листья терлись о калитку при открывании. Тихон прислонился к листьям щекой и еще полминуты постоял у входа.
Анастасия Афанасьевна была одной из немногих, кто пытался сохранять своему двору жизнь. Она не позволяла строению вконец сотлеть, каждый месяц соскабливала со стен мелкий мох и подкрашивала облупившиеся пятна (в сарае еще оставались две бочки с синей краской). Тихон очень любил разглядывать из-за забора эту облуплявшуюся синеву, перемежаемую коричневыми островками – она казалась ему похожей на карту какой-то неизвестной, окруженной водой местности. И хотя ему нравилась здешняя аккуратность, порою хотелось, чтобы учительница подольше не подкрашивала рыжеватые пятна, потому что, когда синяя краска облуплялась и отпадала, Тихону казалось, что суша на карте начинает побеждать воду.
Раньше за хозяйством следил деревенский плотник Афанасий, но теперь, когда прошло уже пять лет, как он умер, дочь, много времени проводившая в школе, безуспешно пыталась поддерживать старый дом, стараниями нескончаемых дождей всё быстрее приходивший в негодность. Как ни пыталась она бороться с этим умиранием, но следы ветхости тут и там давали о себе знать: сильно покосилась крыша, по обводам чердачных фронтонов расползалась гниль, а из-под наличников прямо на подоконники крошилось мокрое дерево, рассыпаясь мелкой занозистой кашицей. Доски пола прогнулись и при ходьбе по дому в серванте позвякивали тарелки. Но всё же ее дом выглядел ухоженнее остальных деревенских жилищ. Хотя обои на стенах давно выцвели, потемнели по углам и кое-где даже ободрались, а ковер на полу сильно истерся, комнату украшали такие столь ненужные в деревенском быту (но неизменно вызывавшие у редких гостей учительницы необъяснимое почтение) предметы, как пианино и три высоких шкафа с книгами. Музыка была увлечением давно умершей матери, и после ее смерти крышка фортепьяно навсегда захлопнулась (точно так же от отца в доме остались умолкшие ходики с деревянным механизмом, сконструированные самим плотником), а вот книги учительница читала почти каждый день.
После того, как сгорела деревенская библиотека, ставшая персональным крематорием вечно пьяного сторожа, дом учительницы оказался едва ли не единственным хранилищем этих странных бумажных предметов. Читала она медленно, завороженно задерживаясь на строчках, почти выучивая наизусть каждую фразу, ее притягивала магия словосплетений, ей нравилось всматриваться в книгу, жить внутри страниц. Буквы были живыми существами, способными соединять несоединимое (или замечать невидимые связи?), переворачивать привычные созвучия и значения, освещать темноту и затенять свет. Она любила даже запах этих пожелтелых листов, шершавую твердость переплетов, шелест бумаги. Этот отстраненный шорох сливался с запрятанными внутри слов шептаниями и превращался в беззвучное, но неумолчное эхо тишины, в бесподобно красноречивое, неисчерпаемое, вдохновенное молчание. Отзвуки фраз продолжали слышаться на самом краю этого молчания, где они снова сплачивались (от слова плач?) в гул неродившейся речи, следовавшей по извивам собственных следов, прерывавшей саму себя, прислушивавшейся к себе, оплакивавшей себя. Блуждание в этом мерцающем смыслами (но при этом пребывающем по ту сторону всех значений) пространстве никак не зависело от времени. Чтение и торопливость с детства казались ей несовместимыми. Эта глубинная сущность – смутная, трудноопределимая реальность была во много раз ценнее житейского жизненного опыта. Сравнивать этот блаженный хаос ускользающей вселенной с канцелярской пошлостью окружающей действительности казалось немыслимым кощунством. Книги напоминали о нелепости суеты, и ради чтения она могла отложить любые домашние дела. И так как электричество в деревне давно было оборвано, Анастасия Афанасьевна все вечера просиживала у окна, чтобы успеть прочитать побольше, пока не смеркалось, ведь по ночам ее светом становились свечи, но поскольку их нужно было экономить, то зажигались они нечасто, и поэтому оставался только огонь в печи, которую из-за промозглой погоды нередко приходилось топить даже летом.
А прежде она еще пользовалась керосиновой лампой. Она помнила те времена, когда в деревне была специальная лавка, вернее сказать, разливательный аппарат, который дед Федор Игнатьич установил прямо у себя в избе. Весь поселок сходился к нему, как в магазин, за этим топливом с пустыми трехлитровыми банками. Он же, кстати, и газ в баллоны заправлял – еще одно давно позабытое явление. А керосин он разбавлял водой, чтобы больше продавать. Про это все знали, но доказать ничего не могли, да и не хотели по большому счету, тем более, что о сколько-нибудь значимых барышах здесь речь идти не могла. Точно так же его жена, Вера Владимировна в мед сахар подмешивала, или, кажется, даже не в мед – а прямо в улей пчелам давала. И хоть мед от этого вкус свой терял, его всё равно покупали, ведь кроме Веры с пчелами никто уже не занимался. «Усачи» (так их прозвали по фамилии Федора – Усачев, да к тому же у Веры Владимировны над верхней губой пробивались вполне заметные усики, а Федор Игнатьич и вовсе не брился, к старости отрастив длиннющую бороду) хоть и надували всё село, но их не особенно ругали и, пожалуй, даже любили. Да и чего не любить-то, ведь, чтобы выживать, каждый как-то по-своему хитрил: пшеница, которую на грузовиках привозили, всегда была смешана с прошлогодним пропавшим зерном, а водка была обыкновенным дешевым спиртом, разбавленным сырой водой. А ругаться с шоферами толку было еще меньше, чем ловить за нечистые руки Федора с Верой. Ведь когда они померли, мед в деревне исчез, а керосин полуторки привозить перестали, потому что отвечать за это переливание никто не брался. Теперь здесь продавали только старую мебель, одежду, инструменты, ну и, конечно, оглодки урожая. Все обменивались друг с другом какими-то остатками. Так Волглое мало-помалу и всасывалось лесными болотами. Лампу же керосиновую Анастасия Афанасьевна не убирала, она так и осталась стоять в углу письменного стола бессмысленной приметой прошлого, и часто по вечерам на нее падал унылый взгляд хозяйки. Учительница много курила – начала после смерти отца и не смогла бросить, да и не хотела. Эту привычку осуждали все соседи, даже укоряли ее, говоря – как же это можно курящей женщине детей учить! – но она отвечала, что курит только дома, и просила не вмешиваться. Ей самой со временем упреки бросать перестали, но за спиной, конечно, всё равно сплетничали. Курить ей нравилось, она чувствовала себя уютно в облаках сумрачного дыма, и когда света для чтения уже недоставало, она просто сидела до поздней ночи у окна, стряхивая пепел в старую сардинницу, и сквозь пыльный туман рассматривала небо.