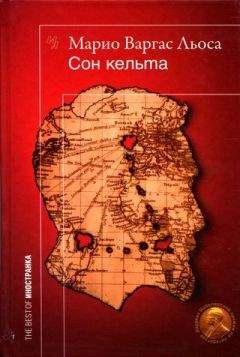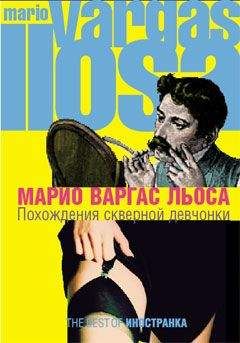И опять она смеется, до слез. И, вытирая слезы, изо всех сил старается не поддаться депрессии, которая, она чувствует, уже наваливается тоской. Инвалид смотрит на нее, похоже, он привык, что она здесь. Но, кажется, монолога ее не слушает.
— Ты не думай, я не истеричка, — вздыхает она. — Пока еще — нет. И в памяти, как сейчас, никогда не копаюсь, и так много не разглагольствую. Это мой первый отпуск за долгие годы. Я не люблю отпуск. Когда я была девочкой, я любила каникулы здесь. А после того, как благодаря sisters попала в университет, разлюбила. Всю жизнь прожила, работая. Во Всемирном банке никогда не брала отпуска. И в адвокатской конторе в Нью-Йорке — тоже. Так что у меня нет времени праздно рассуждать о доминиканской истории.
И в самом деле, ты ведешь в Манхэттене изнуряющую жизнь. Она вся расписана по часам, с девяти утра, когда входишь в свой кабинет на углу Мэдисон и 74-й улицы. До того ты успеваешь побегать сорок пять минут в Центральном парке, если погода хорошая, или заняться аэробикой в Fitness Center, где у тебя абонемент. Твой рабочий день сплошь забит встречами, составлением справок, обсуждениями, консультациями, копанием в архивах, рабочими обедами в служебном помещении или в ресторане по соседству, и вторая половина дня тоже забита и продолжается до восьми часов вечера. Если время позволяет, домой она возвращается пешком. Делает салат, открывает йогурт, потом смотрит новости по телевизору и, почитав немного, ложится в постель, настолько усталая, что еще минут десять в глазах мельтешат буквы от прочитанного или образы из увиденного на экране. Раз или два в месяц — служебные поездки по Соединенным Штатам или в Латинскую Америку, Европу и Азию; а в последнее время — еще и в Африку, куда, наконец-то, некоторые инвесторы рискуют вкладывать деньги, а потому ищут юридической помощи в их конторе. Это ее специализация: легальность финансовых операций предприятия в любой точке земного шара. К этой специализации она пришла, проработав много лет в юридическом департаменте Всемирного банка. Поездки по странам еще более изнурительны, чем рабочий день в Манхэттене. Пять, десять или двенадцать часов лету — Мехико, Бангкок, Токио, Равалпинди или Хараре, — и сразу же, без передыху, за работу: справки, цифры, проекты; при этом меняются пейзаж и климат, из пекла — в холод, из влажной жары -в сухую, от английского языка — к японскому, испанскому, урду, арабскому или хинди, с помощью переводчиков, чьи языковые ошибки могут породить ошибочные решения. И потому все время, постоянно все пять чувств должны быть начеку, и напряженное внимание изматывает так, что во время неизбежных приемов она с трудом сдерживает зевоту.
— Когда мне выпадает свободная суббота или воскресенье, я счастлива остаться дома и читать что-нибудь из доминиканской истории, — говорит она, и ей кажется, что отец согласно кивает. — Довольно типичная история, что правда, то правда. Но я, читая это, отдыхаю. Это мой способ не отрываться от корней. Несмотря на то что там я прожила вдвое дольше, чем здесь, я так и не стала американкой. И по-прежнему говорю как доминиканка, верно, папа?
Глаза инвалида… неужели блеснули иронией? — Ну, хорошо, пусть более-менее как доминиканка, как тамошняя доминиканка. А чего еще можно ждать от человека, прожившего больше тридцати лет среди гринго, где неделями не с кем слова сказать по-испански. Ты знаешь, а я ведь была уверена, что больше тебя не увижу. Даже на похороны не приеду. Твердо решила. Тебе, конечно же, хочется узнать, почему я изменила решение. Зачем я здесь. По правде говоря, я и сама не знаю. Вдруг приехала, и все. Не долго думая. Взяла неделю отпуска, и вот я тут. Зачем-то, видно, приехала, что-то, видно, искала. Может быть, тебя. Узнать — как ты. Я знала, что плохо, что после инсульта с тобой уже нельзя поговорить. Хочешь знать, что я чувствую? Что я почувствовала, возвратившись в дом моего детства? Увидев, во что ты превратился?
Отец опять как будто сосредотачивается. Ждет с интересом, что она скажет. Что ты чувствуешь, Урания? Горечь? Грусть? Печаль? Или вернулись старые гнев и обида? «Хуже всего, что, по-моему, я ничего не чувствую», — думает она.
У входной двери звонят. Звонок звенит-заливается в жаркой утренней тишине.
Волосы, которых не хватало у него на голове, лезли из ушей черными зарослями, агрессивно кудрявились, словно в насмешку над лысиной Конституционного Пьяницы. Это ведь он дал ему такое прозвище, прежде чем окрестил -для внутреннего употребления, среди ближайших подданных — Ходячей Помойкой? Благодетель не помнил. Возможно, и он. Ему удавались прозвища, еще с молодых лет. Часто жестокая кличка, которой он припечатывал свою жертву, становилась плотью человека и в конце концов заменяла ему имя. Так случилось с сенатором Энри Чириносом, которого в Доминиканской Республике никто, кроме газет, и не называл иначе как по этой убойной кличке: Конституционный Пьяница. У него была привычка к тому же гладить гнездившиеся в ушах сальные пряди. И хотя Генералиссимус с его маниакальным пристрастием к чистоте запретил ему заниматься подобными вещами в его присутствии, сейчас он проделывал именно это, а в довершение еще и пощипывал волосы, торчавшие из носу. Он нервничал, очень нервничал. И Генералиссимус знал, почему: он пришел с докладом 6 плохом состоянии экономических дел. Но виноват в скверном положении дел был не Чиринос, а санкции Организации американских государств, они душили страну.
— Если ты сей же момент не прекратишь ковыряться в носу и в ушах, я позову адъютантов, и они тебе всыплют, — сказал он, приходя в дурное настроение. — Я запретил тебе здесь это свинство. Ты что — пьян?
Конституционный Пьяница колыхнулся в кресле перед письменным столом Благодетеля. И убрал руки от лица.
— Ни капли в рот не брал, — оправдался он смущенно. — Вы знаете, Хозяин, я днем не пью. Исключительно вечером и ночью.
Он был в костюме, который Генералиссимусу напомнил дурного вкуса помпезный памятник: зеленовато-свинцового цвета с металлическим отливом; что бы на нем ни было надето, всегда казалось, что его жирное тело втиснули в одежду только с помощью обувного рожка. Поверх белой рубашки болтался ядовито-синий галстук в желтую крапинку, на котором строгий глаз Благодетеля углядел сальные пятна. С досадой подумал, что эти пятна Чиринос посадил во время еды, потому что еду сенатор отправлял в рот огромными кусками и уплетал с жадностью, как будто боялся, что соседи отнимут, и при этом жевал с полуоткрытым ртом, орошая стол слюной и крошками.
— Клянусь вам, ни грамма алкоголя в организме, — повторил он. — Пил только кофе за завтраком.
Возможно, это правда. Когда он входил в кабинет — слоноподобная туша двигалась медленно, пошатываясь, а ноги словно ощупывали пол, прежде чем ступить на него, — Генералиссимус подумал, что он пьян. Нет, должно быть, так проспиртовался, что даже в трезвом состоянии машину ведет неуверенно, а руки бьет алкогольная дрожь.
— Ты так проспиртовался, что, даже когда не пил, кажешься пьяным, — сказал он, оглядывая сенатора с головы до ног.
— Это — правда, — поспешил признать Чиринос, сопроводив слова театральным жестом. — Я — Poete maudit [Проклятый поэт (фр.).], Хозяин. Как Бодлер и Рубен Дарио.
Пепельно— серая кожа, двойной подбородок, редкие сальные волосы, а глазки совсем утонули за набрякшими веками. Нос расплющенный, когда-то он был боксером, и почти безгубый рот, добавлявший извращенный штрих к его вызывающей безобразности. Он всегда был неприятно некрасив настолько, что, когда лет десять назад попал в автомобильную катастрофу, после который чудом остался жив, его друзья думали, что пластическая операция может улучшить его внешность. Но она ухудшила.
То, что он продолжал оставаться в доверии у Благодетеля, в тесном кругу ближайших к нему лиц, таких, как Вирхилио Альварес Пина, Паино Пичардо, Мозговитый Кабраль (уже попавший в немилость) или Хоакин Балагер, лишь доказывало, что, подбирая людей, Генералиссимус не позволял себе руководствоваться личным вкусом или неприязнью. И хотя ему были отвратительны внешний облик, неопрятность и манеры Энри Чириноса, с самого начала своего правления он отличал его деликатными поручениями, которые Трухильо доверял выполнять людям не только надежным, но способным. А этот был одним из самых способных в этом кругу избранных. Он был адвокатом и притворялся радетелем конституции. Совсем молодым, он вместе с Агустином Кабралем был главным составителем конституции, которую выпустил Трухильо в начале своей Эры, и автором всех поправок, которые вносились впоследствии в ее текст. Он же редактировал и все основные законы и подзаконные акты и представлял почти все проекты новых законов, которые Конгресс принимал, дабы узаконить потребности режима. Никто, как он, не мог — в парламентском выступлении, оснащенном латинскими терминами и цитатами, частенько на французском, — придать видимость юридической силы самым спорным решениям исполнительной власти или же сокрушительной логикой разбить в пух и прах всякое предложение, которого не поддерживал Трухильо. Его мозг, устроенный на манер свода законов, мгновенно находил техническую аргументацию для придания законности любому решению Трухильо, опираясь ли на просчет Счетной палаты, или Верховного суда, или принятого Конгрессом закона. Большая часть правовой паутины Эры была соткана дьявольской изобретательностью этого великого законоплета (как назвал его однажды в присутствии Трухильо сенатор Агустин Кабраль, ярый друг и закадычный его враг в этом тесном кружке фаворитов).