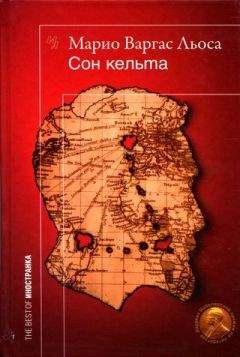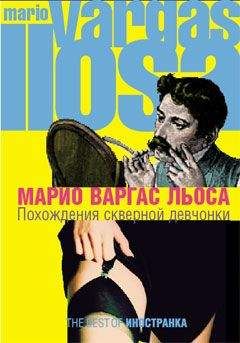— Что вы такое говорите, Хозяин? Бог — свидетель…
— Я знаю, что не воруешь, — успокоил его Трухильо. -А почему не воруешь, хотя имеешь на то все возможности? Из преданности? Может быть. Но главное — из страха. Понимаешь, что если ты украдешь, а я об этом узнаю, то отдам тебя в руки Джонни Аббесу, а он отвезет тебя в Сороковую, посадит на трон и поджарит, а потом выбросит акулам. Он любит такие штучки, наш затейник из СВОРы, и команду себе подобрал с такими же вкусами. Поэтому ты у меня не воруешь. Поэтому у меня не воруют и управляющие, и администраторы, и бухгалтеры, и инженеры, и ветеринары, и надсмотрщики, и прочие, прочие на всех тех предприятиях, за которыми ты надзираешь. Поэтому все они работают четко и споро и поэтому предприятия процветали и множились, превращая Доминиканскую Республику в современную и процветающую страну. Понял?
— Конечно, Хозяин, — снова вздрогнул Конституционный Пьяница. — Вы совершенно правы.
— И наоборот, — продолжал Трухильо, словно не слыша его. — Ты бы воровал, сколько смог, если бы работу, которую делаешь для семьи Трухильо, ты бы делал для семьи Висини, семьи Вальдес или семьи Арментерос. А еще больше, если бы предприятия эти были государственными. Вот уж когда бы ты набил себе карманы. Понимаешь теперь своим умишком, зачем мне эти предприятия, земли и скот?
— Чтобы служить стране, я прекрасно знаю, Ваше Превосходительство, — клятвенно заверил сенатор Чиринос. Он был встревожен, и Трухильо заметил это по тому, как крепко тот прижал к животу чемоданчик с документами и каким все более масляным становился его гон. — У меня и в мыслях ничего другого не было, Хозяин. Боже упаси!
— Однако, что правда, то правда, не все Трухильо такие, как я, — смягчил напряженность Благодетель и скроил разочарованную мину. — Ни у моих братьев, ни у жены, ни у детей нет такой горячей любви к этой стране, как у меня. Они алчны. Хуже всего, что в такие моменты, как сейчас, мне приходится терять время, следить за тем, чтобы они не нарушали моих распоряжений.
Он придал взгляду воинственную пронзительность, какой обычно приводил людей в трепет. Ходячая Помойка вжался в кресло.
— Так, понятно: кто-то ослушался, — пробормотал он. Сенатор Энри Чиринос кивнул, не решаясь заговорить.
— Опять попытались вывезти деньги? — спросил он, придавая тону холодность. — Кто? Старуха?
Рыхлая физиономия, вся в капельках пота, снова кивнула, как бы через силу.
— Отозвала меня в сторону вчера, на вечере поэзии, — начал он неуверенно, голос истончился до ниточки. — Сказала, что исключительно думая о вас, не о себе и не о детях. Чтобы обеспечить вам спокойную старость, если что вдруг… Я уверен, что это правда, Хозяин. Она вас любит безумно.
— Чего хотела?
— Еще один перевод в Швейцарию. — Сенатор замялся. — Всего один миллион на этот раз.
— Надеюсь, ради твоего собственного блага, ты не доставил ей удовольствия, — проговорил Трухильо сухо.
— Я не сделал этого, — промямлил Чиринос, тревога не отпускала его, и слова выходили мятые, а тело сотрясала легкая дрожь. — Там, где командует капитан, солдат не распоряжается. Кроме того при всем моем уважении и преданности, которых заслуживает донья Мария, прежде всего я предан вам. Я в очень щекотливой ситуации, Хозяин. Отказывая, я теряю дружбу доньи Марии. А я второй раз на неделе отказываю в ее просьбе.
И Высокочтимая Дама тоже боится, что режим рухнет? Четыре месяца назад она попросила Чириноса перевести в Швейцарию пять миллионов долларов; сейчас — один. Думает, что настанет момент, когда придется удирать отсюда, и что надо иметь кругленькие счета за границей, чтобы позолотить себе изгнание и жить там да радоваться. Как Перес Хименес, Батиста, Рохас Пинилья, как Перон, все это отребье. Старая скряга. Можно подумать, что тылы у нее и без того не обеспечены, дальше некуда. Но ей все мало. Она и в молодости была скупа, а с годами совсем очумела. Собирается унести счета с собой на тот свет? Это — единственное, в чем ей всегда хватало смелости ослушаться мужа. Два раза за неделю. Ничего себе, у него за спиной плетет сети. Вот так же, без ведома Трухильо, купила дом в Испании после официального визита к Франко в 1954 году. И открывала, и набивала шифрованные счета в Швейцарии и в Нью-Йорке, о которых он узнавал иногда совершенно случайно. Раньше он не обращал на это особого внимания, ну врежет ей раз-другой, а потом пожмет плечами: что поделаешь, каприз стареющей женщины, климакс, к тому же — его законная жена, надо иметь к ней уважение. Но сейчас — другое дело. Он отдал строгий приказ, чтобы ни один доминиканец, включая членов семьи Трухильо, не вывез из страны ни одного песо, пока длятся санкции. Он не позволит крысам бежать с корабля, потому что корабль и в самом деле пойдет ко дну, ж вся команда, а первыми — офицеры и капитан, вздумает бежать. Нет, коньо, этого не будет. Здесь останутся родные и близкие, друзья и враги, со всем, что у них есть, чтобы сражаться или лечь костьми на поле чести. Как marine, коньо. Старая дура, сквалыга! Надо было давно развестись с ней и жениться на одной из тех великолепных женщин, что прошли через его руки, например на красивой, податливой Лине Ловатон, которой он пожертвовал ради этой неблагодарной страны. Высокочтимой Даме надо будет сегодня вечером вложить ума и напомнить, что Рафаэль Леонидас Трухильо Молина — не Батиста, и не свинья Перес Хименес, и не ханжа Рохас Пинилья, и даже не нафабренный генерал Перон. Он не проведет последние годы своей жизни за границей, как государственный деятель в отставке. Он до последней минуты будет жить в этой стране, которая его стараниями из дикого племени, орды, карикатуры на страну превратилась в Республику.
Он заметил, что Конституционный Пьяница все еще дрожит. В уголках рта запеклась пена. А глазки под двумя жирными шарами век бешено мечутся.
— Значит, что-то еще. Что?
— На прошлой неделе я информировал вас: нам удалось уйти от того, что нам заблокировали бы оплату через лондонский «Ллойде» за партию сахара, проданного в Великобританию и в Нидерланды. Деньги небольшие. Около семи миллионов долларов, из которых четыре — вашим предприятиям, а остальное — сахарным заводам Висини и компании «Сентрал Романа». Согласно вашим инструкциям, я попросил «Ллойде», чтобы эту валюту перевели в Центральный банк. Сегодня утром мне сообщили, что они получили другое указание. — От кого?
— От генерала Рамфиса, Хозяин. Он телеграфировал, чтобы всю сумму перевели в Париж.
— Лондонский «Ллойде» набит говноедами, которые подчиняются контрприказам Рамфиса?
Генералиссимус говорил медленно, изо всех сил стараясь не взорваться. Такая чушь отнимает столько времени. И неприятно — обнажать перед иностранцами, какими бы своими и доверенными они ни были, семейные язвы.
— Просьба генерала Рамфиса еще не выполнена, Хозяин. Они сбиты с толку, поэтому и позвонили мне. Я повторил, что деньги следует перевести в Центральный банк. Но поскольку у генерала Рамфиса есть ваша доверенность и были случаи, когда он брал там деньги, то было бы уместно сообщить «Ллойдсу» что произошло недоразумение. В целях сохранения имиджа, Хозяин.
— Позвони ему и скажи, чтобы извинился перед «Ллойдсом». Сегодня же.
Чиринос поерзал в кресле, ему было не по себе.
— Раз вы приказываете, я сделаю, — промямлил. — Но позвольте попросить вас. Как старый друг. И самый верный из ваших слуг. На меня уже имеет зуб донья Мария. Не делайте из меня врага и в глазах вашего старшего сына.
Он так явно терзался, что Трухильо улыбнулся, глядя на него.
— Звони, не трусь. Я покуда не собираюсь умирать. Проживу еще лет десять, я должен завершить начатое депо. Мне нужно как раз столько времени. И ты будешь со мной, до последнего дня. Потому что — безобразный, пьяница, неряха — ты все равно один из лучших моих людей. — Он сделал паузу и, глядя на Ходячую Помойку с нежностью, с какой нищий смотрит на запаршивевшего пса, добавил нечто, совершенно необычное в его устах:
— Хотел бы я, чтобы кто-нибудь из моих братьев или детей стоил то, чего стоишь ты, Энри.
Ошеломленный сенатор не сразу нашелся, что сказать.
— Ваши слова — лучшая награда за все мои терзания и хлопоты, — с трудом выговорил он, наклоняя голову.
— Тебе повезло — ты не женился и не имеешь семьи, — продолжал Трухильо. — Наверное, не раз думал, что это беда — не иметь потомства. Чушь! Главная ошибка моей жизни — моя семья. Мои братья, моя жена, мои дети. Ты видел подобный кошмар? Пьянка, деньги, бабы — вот их горизонт. Есть ли среди них хоть один, способный продолжить мое дело? Разве не позор, что Рамфис и Радамес, и место того чтобы быть рядом со мной в такой момент, в Париже играют в поло?
Чиринос застыл, опустив глаза, недвижный, и слушал с серьезным и со всем согласным лицом, не произнося пи слова, наверняка опасаясь за свое будущее, если вдруг ненароком вырвется слово против детей или братьев Хозяина. Странно, что он пустился в эти горькие рассуждения; он никогда не говорил о своей семье, даже в кругу самых близких к нему людей, и тем более так жестко.