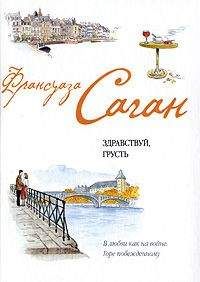как можно было никогда этого не знать? Когда мы оторвались друг от друга, Люк открыл глаза и улыбнулся мне. Я тотчас заснула, положив голову на его руку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Мне всегда говорили, что жить с кем-нибудь очень трудно. Я думала об этом, но так по-настоящему и не узнала во время короткой совместной жизни с Люком. Я думала об этом, потому что никак не могла полностью расслабиться с ним. Я боялась, не соскучится ли он со мной. Я не могла не заметить, что обычно боялась за себя — не соскучусь ли я, — а не за других. Такой поворот меня беспокоил. Но разве трудно жить с таким человеком, как Люк, который не заводит серьезных разговоров, ни о чем не спрашивает (особенно — "О чем ты думаешь? "), неизменно доволен, что я рядом, и не демонстрирует ни равнодушия, ни страсти? Мы шли в ногу, у нас были одинаковые привычки, одинаковый ритм жизни. Мы нравились друг другу, все шло хорошо. Я вовсе не жалела о том, что он не делает этого огромного усилия над собой, без которого невозможно полюбить другого человека, узнать его, разрушить свое одиночество. Мы были друзьями, любовниками; вместе купались в Средиземном море, чересчур синем; разморенные солнцем, завтракали, разговаривая о пустяках, и возвращались в отель. Иногда, в его объятиях, охваченная нежностью, наступающей после любви, я так хотела ему сказать: «Люк, полюби меня, давай попытаемся, позволь нам попытаться». Я не говорила этого. Я только целовала его лоб, глаза, рот, каждую черточку этого нового лица, теперь осязаемого, которое губы открывают вслед за глазами. Ни одно лицо я так не любила. Я любила даже его щеки, а ведь эта часть лица всегда была для меня больше «рыбой», чем «мясом». Теперь, прижимаясь лицом к щекам Люка, прохладным и немного колючим — у него быстро отрастала борода, — я поняла Пруста, длинно описывавшего щеки Альбертины. Благодаря Люку я узнала свое тело, он говорил мне о нем с интересом, без непристойности, как о какой-то драгоценности. Однако не чувственность определяла наши отношения, а что-то другое, что-то вроде соучастия, нелегкого, вызванного усталостью от жизненных комедий, усталостью от слов, усталостью как таковой.
После обеда мы всегда ходили в один и тот же бар, немного мрачный, за улицей д'Антиб. Там был маленький оркестр; когда мы пришли туда в первый раз, Люк заказал мелодию «Покинутый и любимый», я ему о ней говорила. Он обернулся ко мне, очень довольный собой:
— Ты эту мелодию хотела?
— Да. Как приятно, что ты вспомнил.
— Она напоминает тебе Бертрана? Я ответила — да, немного, эта пластинка уже давно в ходу. Он поморщился.
— Досадно. Но мы придумаем что-нибудь другое.
— Зачем?
— Когда заводишь роман, надо выбрать мелодию, духи, какие-то ориентиры на будущее.
Должно быть, у меня был забавный вид, потому что он засмеялся.
— В твоем возрасте не думают о будущем. А я готовлю себе приятную старость, с пластинками.
— У тебя их много?
— Нет.
— Жаль, — сказала я со злостью. — Мне кажется, у меня в твоем возрасте будет целая дискотека. Он осторожно взял меня за руку.
— Ты обиделась?
— Нет, — сказала я подавленно. — Просто это довольно смешно, вот так думать, что через год или два от целой недели твоей жизни, живой недели с мужчиной, не останется ничего, кроме пластинки. Особенно если мужчина заранее это знает и об этом говорит.
Я с раздражением чувствовала слезы на глазах. И все из-за тона, которым он спросил: "Ты обиделась? " Когда со мной так говорят, мне всегда хочется похныкать.
— Больше я ни на что не обиделась, — нервно повторила я.
— Идем, — сказал Люк, — потанцуем. Он обнял меня, и мы начали танцевать под мелодию Бертрана, совершенно, впрочем, непохожую на прекрасную запись на пластинке. Когда мы танцевали, Люк вдруг сильно прижал меня к себе, с особенной нежностью, — так, вероятно, это называется, — и я прильнула к нему. Потом он отпустил меня, и мы заговорили о другом. Мы нашли нашу мелодию, она выбралась сама собой, потому что ее играли повсюду.
Кроме этой маленькой ссоры, я держалась хорошо, была веселой и считала, что наше небольшое приключение очень удачно. И потом, я восхищалась Люком, я не могла не восхищаться его умом, его жизненной устойчивостью, манерой сразу определять ценность вещей, их значение, по-мужски точно, без цинизма или снисходительности. Но мне хотелось сказать ему иногда с раздражением: "Почему бы тебе все-таки не полюбить меня? Мне было бы настолько спокойнее! Почему не установить между нами стеклянную стену страсти, меняющую порой все пропорции, но такую удобную? " Но нет, мы оставались в том же качестве — союзники и соучастники. Я не могла стать любимой, а он любящим, у него не было на это ни возможности, ни сил, ни желания. В то утро-оно должно было быть последним — мне показалось, что он меня любит. Он принялся молча ходить по комнате, вид у него был такой замкнутый, что это меня заинтриговало.
— Что ты сказала дома? Когда ты вернешься?
— Я сказала «примерно через неделю».
— Если это тебя устроит, останемся еще на неделю?
— Да…
Я вдруг поняла, что и не думала об отъезде по-настоящему. Моя жизнь пройдет в этом отеле, который стал гостеприимным и удобным, как большой корабль. Рядом с Люком все ночи будут бессонными. Мы тихо приблизимся к зиме, к смерти, разговаривая о преходящем.
— Я думаю: Франсуаза тебя ждет?
— Это я могу уладить. Я не хочу уезжать из Канна. Ни из Канна, ни от тебя.
— Я тоже, — ответила я таким же спокойным и невинным тоном.
Таким же тоном. На секунду я подумала, что он, может быть, любит меня, но не хочет этого говорить. Сердце у меня забилось. Но потом я вспомнила, что это всего лишь слова, что я действительно ему нравлюсь и что этого достаточно. Просто мы договорились еще об одной счастливой неделе. Потом я должна буду его оставить. Оставить его, оставить его… Зачем, для кого, для чего? Для приступов скуки, для рассеянного одиночества? По крайней мере, когда на меня смотрит он, я вижу, что это он; когда он говорит со мной, это тот, кого я хочу понять. Он, который мне интересен, кого я хочу видеть счастливым. Он, Люк, мой любовник.
— Это прекрасная мысль, — повторила я. — По правде говоря, я не думала об отъезде.
— Ты не думаешь ни о чем, — сказал он, смеясь.
— Да, когда я с тобой.
— Почему? Чувствуешь себя юной, ни за что не отвечающей?
Он лукаво улыбался. Он быстро — если бы я попыталась — уничтожил бы в нашей паре позицию «маленькой девочки и чудесного покровителя».
К счастью, я чувствовала себя совершенно взрослой, взрослой и пресыщенной.
— Нет, — сказала я. — Я за все отвечаю. Но за что? За свою жизнь? Она достаточно приемлемая и достаточно вялая. Я не чувствую себя несчастной. Я довольна. Но я и не счастлива. Мне никак; хорошо только с тобой.
— Это прекрасно, — продолжил он. — Мне тоже очень хорошо с тобой.
— Что ж, давай помурлыкаем. Он засмеялся.
— Стоит хоть чуть-чуть упрекнуть тебя за эту твою привычную дозу безнадежности — ах, жизнь абсурдна, — как ты становишься разъяренной кошкой. Я вовсе не претендую на то, чтобы ты, по твоему выражению, «мурлыкала», или, скажем, блаженствовала со мной. Мне бы стало скучно.
— Почему?
— Я бы чувствовал себя одиноким. Бывают минуты, когда Франсуаза внушает мне страх-то есть, когда она рядом со мной, молчит и всем довольна. С другой стороны, с мужской и общественной точки зрения, очень удобно знать, что сделал женщину счастливой, хотя сам не понимаешь, каким образом.
— Значит, все прекрасно, — выпалила я единым духом. — Есть Франсуаза, которую ты делаешь счастливой, и я, которую ты сделаешь довольно несчастной по возвращении.
Я еще не успела договорить эту фразу, как уже пожалела о ней. Он повернулся ко мне:
— Тебя несчастной?
— Нет, — ответила я, улыбаясь, — немного сбитой с толку. Нужно будет найти кого-то, кто бы занимался мной, а никто не умеет этого лучше тебя.
— Только не вздумай рассказывать мне об этом, — сказал он со злостью. Потом передумал.
— Нет, лучше рассказывай. Рассказывай мне обо всем. Если это будет неприятный тип, я его поколочу. Если наоборот, я выражу свое согласие. Короче, настоящий папаша.
Он взял мою руку, повернул ее и стал нежно и долго целовать ладонь. Я положила другую руку ему на затылок. Он был очень юный, очень ранимый, очень добрый, этот мужчина, предложивший мне связь без будущего, без сантиментов. Он был честен.
— Мы — честные люди, — сказала я нравоучительным тоном.
— Да, — ответил он, смеясь. — Только не кури вот так сигарету, это нечестно.