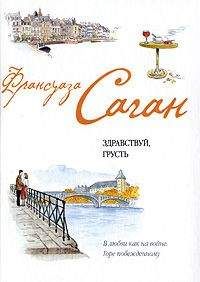И вот настал день отъезда. Из лицемерия, где главную роль играл страх: у него, что я расчувствуюсь, у меня — что, заметив это, я расчувствуюсь еще больше, мы накануне, в последний наш вечер, не упоминали об отъезде. Просто я много раз просыпалась ночью, в какой-то панике искала Люка, его лоб, руку, мне нужно было убедиться, что нежный союз нашего сна все еще существует. И каждый раз, будто подстерегая эти приступы страха, будто сон его был неглубок, Люк обнимал меня, сжимал мой затылок, шептал: «Здесь, здесь» голосом необычным, каким успокаивают зверей. Это была смутная, заполненная шорохами и запахом мимозы ночь, которую мы оставим позади, ночь полусна и бессилия. Потом настало утро, легкий завтрак, и Люк начал собирать вещи. Я собирала свои, разговаривая о дороге, дорожных ресторанах и прочем. Меня немного раздражал мой собственный фальшиво-спокойный и мужественный тон, потому что мужественной я себя не чувствовала и не видела причин быть ею. Я чувствовала себя никакой: несколько растерявшейся, может быть. На этот раз мы разыгрывали полукомедию, и я считала более осмотрительным так и продолжать, а то, в конце концов, он мог бы заставить меня страдать, расставаясь с ним. Уж лучше вот такое выражение лица, манеры, жесты непричастности.
— Ну вот, мы и готовы, — сказал он наконец. — Я позвоню, чтобы пришли за багажом.
Я очнулась.
— Давай последний раз посмотрим с балкона, — сказала я мелодраматическим голосом.
Он посмотрел на меня с беспокойством, потом, поняв выражение моего лица, засмеялся.
— А ты и в самом деле твердый орешек, настоящий циник. Ты мне нравишься.
Он обнял меня посреди комнаты; легко встряхнул.
— Знаешь, это редко бывает, когда можно сказать кому-нибудь: «Ты мне нравишься» — после двух недель совместного житья.
— Это не совместное житье, — запротестовала я, смеясь, — это медовый месяц.
— Тем более! — сказал он, отстраняясь. В тот момент я действительно почувствовала, что он оставляет меня и что мне хочется удержать его за лацканы пиджака. Это было мимолетно и очень неприятно.
Возвращение прошло хорошо. Я немного вела машину, Люк сказал, что мы приедем в Париж ночью, завтра он позвонит мне, и вскоре мы пообедаем вместе с Франсуазой — к этому времени она вернется из деревни, где провела две недели у своей матери. Меня это немного обеспокоило, но Люк посоветовал не упоминать о нашем путешествии — вот и все; остальное он сам с ней уладит. Я довольно ясно представляла себе осень — меж них двоих — встречи с Люком от случая к случаю, когда мы целуемся, любим друг друга. Я никогда не предполагала, что он оставит Франсуазу, сначала — потому что он сказал, потом — потому что мне казалось невозможным причинить такую боль Франсуазе. Предложи он мне это — я, без сомнения, не смогла бы в тот момент согласиться.
Он сказал мне, что по возвращении у него много работы, но не особенно интересной. Меня ждал новый учебный год, необходимость углубляться в то, что и в прошлом-то году было довольно скучным. Одним словом, мы возвращались в Париж унылыми, но мне это нравилось, потому что у обоих было одинаковое уныние, одинаковая тоска и, следовательно, одинаковая необходимость цепляться друг за друга.
Мы добрались до Парижа поздно ночью. У Итальянских ворот я посмотрела на Люка, на его немного
осунувшееся лицо и подумала, что мы легко выпутались из нашего маленького приключения, что мы действительно взрослые люди, цивилизованные и разумные, и вдруг меня охватила ярость — такой нестерпимо униженной я себя почувствовала.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Мне никогда не приходилось открывать Париж заново: он был открыт мной раз и навсегда. Но сейчас я удивлялась его очарованию и удовольствию, с которым гуляла по его улицам, по-летнему неделовым. В течение трех пустых дней это отвлекало меня от ощущения абсурда, вызванного отсутствием Люка. Я искала его глазами, иногда ночью рукой, и каждый раз мне казалось нелепым и бессмысленным, что его нет. Эти две недели уже приобрели в моей памяти какую-то форму, тональность, полнозвучную и резкую одновременно. Странно, что ощущала я их отнюдь не как поражение, напротив, как победу. Победу, которая — и я хорошо это понимала — затруднит, вернее, превратит в мучение любую подобную попытку.
Вернется Бертран. Что сказать Бертрану? Бертран попытается меня вернуть. Зачем начинать с ним снова и, главное, как терпеть другое тело, другое дыхание, если это не Люк?
Люк не позвонил мне ни на следующий день, ни через день. Я приписала это сложностям с Франсуазой и извлекла из этого двойственное ощущение собственной значительности и стыда. Я много бродила, размышляя отвлеченно и не слишком заинтересованно о наступающем годе. Быть может, я найду какое-нибудь более умное занятие, чем юриспруденция. Люк обещал познакомить меня с одним из своих друзей, редактором журнала. Если до сих пор сила инерции побуждала меня искать успокоение в чувстве, то теперь она заставляла меня искать его в профессии.
Через два дня я уже не могла справиться с желанием видеть Люка. Не осмеливаясь позвонить, я послала ему коротенькую записку, вежливую и непринужденную одновременно, с просьбой мне позвонить. Что он и сделал на следующий день: он ездил за Франсуазой в деревню и раньше позвонить не мог. Голос звучал напряженно. Я подумала, что он истосковался по мне; и на секунду, пока он говорил, представила, как мы встретимся в каком-нибудь кафе, он обнимет меня и скажет, что не может жить без меня и что эти два дня были сплошным абсурдом. Я отвечу: «Я тоже», вполне правдиво, и пусть он решает. Люк действительно предложил мне встретиться, но только чтобы сказать — все прошло хорошо, она не задала ни одного вопроса, а сам он завален работой. Он добавил: «Ты красивая» — и поцеловал мне руку.
Я нашла его изменившимся — он снова стал носить темные костюмы — изменившимся и привлекательным. Я смотрела на его лицо, четко очерченное и усталое. Мне было странно, что оно больше мне не принадлежит. Я даже подумала, что и вправду не сумела «попользоваться» (это слово показалось мне отвратительным) нашим совместным путешествием. Я говорила с ним весело, он отвечал в том же тоне, и оба мы были неестественны. Может быть, оттого, что оба удивлялись — оказывается, легко прожить с кем-то, две недели, и как хорошо это получается и все-таки ни к чему серьезному не ведет. И только когда он встал, во мне поднялся протест, захотелось крикнуть: "Куда же ты? Не оставишь же ты меня одну? " Он ушел, и я осталась одна. Мне, в общем, нечего было делать. Я подумала: «Комедия какая-то», — и пожала плечами. Погуляла часок, зашла в несколько кафе, надеялась кого-нибудь встретить, но никто еще не приехал. В любой момент можно было уехать еще на две недели «к своим». Но я должна была послезавтра обедать с Люком и Франсуазой и решила дождаться этого обеда, а уж потом уехать.
Эти два дня я провела в кино или валялась, читала, спала. Моя комната казалась мне чужой. Наконец, в день обеда, я тщательно оделась и отправилась к ним. Позвонив, я на секунду испугалась, но мне открыла Франсуаза, и ее улыбка тотчас меня успокоила. Я знала (мне говорил это Люк), что она никогда не поставит себя в смешное положение, необыкновенная доброта и чувство собственного достоинства ей никогда не изменят. Она никогда не была обманутой и наверняка никогда не будет.
Забавный это был обед. Мы были втроем, и все шло прекрасно, как раньше. Только мы очень много выпили перед тем, как сесть за стол. Франсуаза, казалось, ничего не знала, но, может быть, смотрела на меня более внимательно, чем обычно. Время от времени Люк говорил со мной, глядя мне прямо в глаза, и я считала делом чести отвечать ему весело и непринужденно. Разговор зашел о Бертране, который возвращался на будущей неделе.
— Меня здесь не будет, — сказала я.
— Где же ты будешь? — спросил Люк.
— Наверно, я поеду на несколько дней к моим родителям.
— Когда вы вернетесь? Это спросила Франсуаза.
— Через две недели.
— Доминика, я перехожу с вами на «ты»! — вдруг сказала она. — Мне надоело говорить вам «вы».
— Давайте все перейдем на «ты», — сказал Люк, улыбаясь, и направился к проигрывателю. Я проследила за ним взглядом и, обернувшись к Франсуазе, увидела, что она смотрит на меня. Обеспокоенная, я ответила на ее взгляд, только бы она не подумала, что я избегаю смотреть ей в глаза. Она коснулась моей руки с легкой и грустной улыбкой, все во мне перевернувшей.
— Вы… то есть ты, напишешь мне открытку, Доминика? Ты еще не сказала мне, как там твоя мама.
— Хорошо, — сказала я, — она…
Я остановилась, потому что Люк поставил пластинку, которая постоянно звучала на побережье и разом все напомнила. Он не оборачивался. Я почувствовала, что мысли у меня пришли в полное замешательство от этой пары, от музыки, от снисходительности Франсуазы, которая не была снисходительностью, от чувствительности Люка, которая тоже не была чувствительностью — короче, от всей этой мешанины. В эту минуту мне по-настоящему хотелось сбежать.