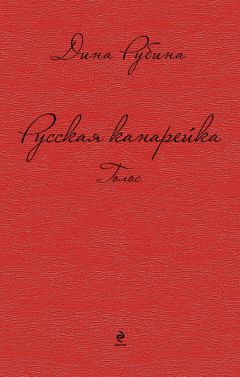— Ух, как сердечко у тебя тарахтит, малыш! — и вдруг сильно и властно сжала его левый сосок, будто взяла душу в пригоршню.
Но наш Меир, наш Самсон, наш несокрушимый Портос — он был не из таковских, чтобы его свалила рюмочка или паршивый косячок. Дурным рыком поверженного сатрапа он велел им вернуться, пока не обезглавил обоих, к чер-р-р-ртовой матери!
И они вернулись и, переглядываясь поверх опрокинутого навзничь падишаха, все доливали ему спиртного, приподнимая крупную рыжую голову, вливая в ненасытную пасть еще рюмочку, и еще одну…
Меир уже не ворочал языком, а движения Габриэлы становились все ленивее, и все медленнее поднималась ее ладонь по Леоновой спине. Раза три, проскальзывая позади Леона, она прижималась к нему всем телом, будто кто перцовый пластырь на спину лепил. И раз за разом все дольше длилась невероятная сладость теплого прикосновения к его спине ее груди и бедер…
…Вдруг они увидели — нет, просто почуяли, — что Меир наконец уснул.
Габриэла выключила музыку, и наступила тишина: строгая, исчерпывающая, четко поделившая ночь пополам. Кончилась игра. Стало слышно, как громыхнуло и неразборчивым басом пророкотало небо.
— Странно, — сказала Габриэла. — Гроза, в это время? Что-то несусветное…
Он ждал, молча глядя на нее поверх распростертого на тахте друга, не делая ни шага навстречу. Почему, почему он никогда не мог поступить с ней как мужчина? — этот проклятый вопрос мучил его всю жизнь. Да потому, отвечал себе сам, что ты и не был мужчиной — тогда.
— Ну, все, — добродетельным и даже каким-то будничным тоном сказала она. — Расходимся спать.
Быстро нырнула вниз и процокала по лестнице каблучками (никогда не упускала случая стать выше его еще на пять сантиметров). Дверь в спальню, отведенную Габриэле на эту ночь, захлопнулась коротко и внятно. Мягко и картаво провернулся ключ.
Леон стоял, как болван, не в силах понять: что это было, что она затеяла? Какой знак ему подала — чтобы спускался за ней? чтобы не смел приближаться? чтобы знал свое место — рядом с Бусей, в «норе»?
И, вконец истерзанный своей мучительницей, всеми этими танцами, взглядами, поцелуями, коварными томительными прикосновениями, поплелся к себе, в «нору».
Он лежал в утробе скалы, как мертвый, ожидающий воскресения, и мысленно перекатывался из кухни в комнату и вниз, в спальню, где лежала Габриэла. Слушал громыхания грозы — слишком странной, слишком поздней летней грозы; содрогания неба совпадали с содроганиями его крови.
Он лежал на спине, на складной кровати, и его подбрасывала и сотрясала тугая сила то ли грозы, то ли собственной крови, пока наконец не вышвырнула прочь. И едва касаясь босыми ступнями пола, он выскользнул в кухню и вылетел в темный коридор, где через три шага столкнулся с Габриэлой — тоже босой, тоже к нему бегущей, тоже — с клокочущим сердцебиением.
Молча вцепившись друг в друга, они стояли и дрожали — босые на холодном каменном полу, под грозным полетом рваных туч в двух огромных купольных окнах в ротонде, губами жадно пробегая и ощупывая друг друга в шорохе дождя и ночи, боясь застонать, валкими шажками подвигая один другого, пока не притащились четырехногой гусеницей в спальню, не рухнули плашмя поперек широкой хозяйской кровати…
В кромешной тьме за стеклянной стеной возникла раскаленная проволока молнии, на долю секунды впечатав черные пики елей и сосен в алюминиевое небо. И сразу грохнуло так, что показалось: дом сейчас отвалится от скалы и полетит в пропасть. Габриэла вскрикнула и обхватила Леона руками, ногами, прижавшись всем телом, как испуганный детеныш обезьяны.
Гулко рухнули на крышу бурные потоки, заливая огромное окно во всю стену, и это было — как вход в пещеру, занавешенный дождем, за которым принялся отбивать удары колокол соседнего монастыря.
Шум крови сливался с шумом дождя и был ритмом, биением пульса в телах, не стихшим, когда уже и колокол стих, и после вкрадчивых, неукротимых, пугающих его самого попыток проникнуть в нее, он вдруг в отчаянии (нет, никогда ничего не получится!) ударил ее всем телом и сам застонал с ней в унисон от жгучей боли и жгучего блаженства, понимая, что — очутился, — чувствуя набат пульса во всем теле — божественное сладостное стаккато, что охватило и повело их слитные тела и вело до конца, до мучительной вспышки грозовой кровеносной плети в окне за мгновение до громового разряда — ее разряда, — который он ощутил в медленном содрогании ее тонкой спины, заключенной им в охапку…
Все остальное (кажется, она бегала в ванную — стирать и развешивать оскандаленную простыню, а его шуганула как-то по-женски, не глядя махнув отсылающей ладонью) — все остальное, и главным образом его возбужденные рваные диалоги с самим собой — все продолжалось в «норе», куда он заполз уже один, уже иной, чем прежде.
Гроза, уютно погромыхивая, медленно уходила дальше, на Иерусалим, Леон же продолжал говорить с Габриэлой новым своим голосом, с новой требовательной интонацией — как разговаривал с Владкой, когда хотел втемяшить ей в голову нечто важное. «Ты понимаешь, что теперь мы — навсегда?» — строгим шепотом спрашивал он Габриэлу, и тут же улыбался в темноту, и опять что-то строго ей говорил, а она что-то отвечала, вроде как Владка: «Ну ты и зануда, Лео…» — стихали шорохи, где-то шлепали по плитам чьи-то босые ноги, и все это было уже в блаженном сне, что выпрастывался из грозы на чистое-чистое небо. Навсегда. Навсегда. Навсегда…
…Разбудил его Меир — ласково, даже как-то… жалостно. И легко, точно они играли очередную сцену в какой-нибудь постановке их несбывшегося бродячего театра.
Тронул за плечо и мягко проговорил:
— Просыпайся, малыш…
Ничего особенного в том, что Меир его будит, не было. Обычное дело. Тот всегда вставал ни свет ни заря и — эгоист несчастный! — никогда не упускал случая вытащить из-под головы друга подушку. Ничего особенного, кроме слова «малыш» — так дразнила Леона Габриэла и никогда не говорил Меир. Почему Леона подбросило и он сел на кровати, озираясь, точно искал и не находил Габриэлу?
— Ну что… — так же грустно и сострадательно проговорил Меир, старательно пряча торжествующую улыбку победителя. — Что, малыш… Ночь любви закончилась не в твою пользу. Хоть ты и постарался меня напоить — думал из игры вывести, а?
Леон, ошалевший, сидел на кровати, все так же озираясь, уже понимая — ничего не понимая! — что в его жизни случилось что-то непоправимое.
— Габриэла?.. — выговорил он хриплым шепотом.
— Габриэла спит в моей кровати, — усмехнувшись, просто сказал Меир. — Она захотела выбрать, понимаешь? Сравнить и выбрать. Это ее право. И выбрала меня — извини…
Меир, душа-человек, как обычно, взял на себя самое тяжелое: объяснение с соперником. Великодушно повиниться, даже если и не считал себя виноватым (какого дьявола они его напоили! счет изначально был не в его пользу), но все равно уж: повиниться, подвести черту и остаться друзьями.
Меир, душа-человек, так и не понял, с кем имеет дело.
Много дней и даже недель спустя, думая о том, что произошло, Меир прежде всего вспоминал удар змеи, что однажды летом ужалила отца на террасе. Та тоже, свившись в тугой комок, молниеносно взвилась всем телом и ударила метко в цель.
Для Леона это была точно взятая нота: головой — в солнечное сплетение. Меир согнулся, охнул и завалился на кровати.
— Ты что… — просипел он. — Ты что, совсем одуре…
Поднялся и вновь упал, уже на пол, сбитый с ног таким же точным ударом головой в подбородок.
И тут тело Меира просто вспомнило тренировки, вспомнило отдельно от него — в конце концов, его же учили чему-то! «Ноги — всему голова»… Там, в «Бусиной норе», развернуться было негде, но Меир вскочил и ударом ноги долбанул Леона, отшвырнув к стене. Тот сильно приложился головой, отключился, поплыл… Тогда Меир сгреб его в охапку, выволок наружу, протащил через весь дом к открытой террасе — вот уже тут было вполне просторно — и, чувствуя только одно — ледяную ярость, — пошел чесать ногами чуть ли не вслепую; натренирован был… Он не слышал визга проснувшейся и прибежавшей Габриэлы, не услышал, как (чудо!) к дому подъехала машина и вернувшиеся раньше времени (не спалось на гостиничных матрасах) Натан с Магдой ринулись в дом. Он не слышал ни воплей матери, ни окрика отца. Он бил, выбрасывая ноги, издавая боевые хэканья и взвои, словно демонстрировал все приемы, которые знал; с каждым ударом сталкивал Леона все ближе к невысокому барьеру террасы, где склон обрывался круто вниз, и остановлен был только отцом: тот налетел и отшвырнул сына прочь. Но Меир опять вскочил и кинулся добивать, так что Натану потребовалась еще пара увесистых затрещин, чтобы отрезвить этого бойца.