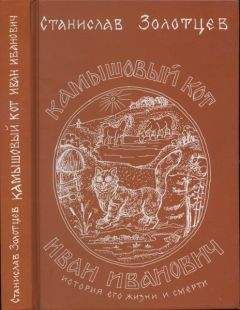Я вытер капли пота и, скомкав каждый бланк, выбросил их в урну.
Уже было вышел на улицу, но в последний момент все-таки возвратился и, не оставляя улик, выудил весь свой улов обратно.
А уже на мосту все четыре бланка разгладил и, разорвав на мелкие кусочки, пустил бумажными корабликами в Магаданку.
Теперь-то уж доплывут.
Магаданка — это название нашей речки, что в обратном переводе с чукотского значит ГНИЛАЯ ВОДА.
Как видишь, наши прогнозы оправдываются, и тетя Галя (тебе от нее персональный привет) не дремлет.
Пишу на буфетном столике напротив багажной стойки, и через пятнадцать минут начало регистрации рейса на Москву. Осталось заклеить конверт и попросить кого-нибудь из вылетающих опустить его в Домодедове.
Подробную информацию (с момента моего последнего возвращения в Магадан) вперемежку с уже заправленными главками перешлю при первой оказии.
Все, закругляюсь. Вчерашние штаны хотя и сушатся в бараке на веревке, рука, перестав дрожать, уже привычно тянется к перу.
Аэропорт, 56-й километр Колымской трассы.
Тося.
09.06.73.
P. S. Послезавтра выезжаю на гидрологический пост в Омсукчан и на своем посту открою по врагам народа прицельный огонь…
И ВСЕ-ТАКИ ОБИДНО
…И все-таки обидно: в моем возрасте Франсуа Вийона уже давным-давно повесили, а меня еще только хотят поставить на ноги. Но недаром же говорят в народе, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Я даже придумал такую шутку: если тебя хотят поставить на ноги — не опускай рук, а если тебя хотят повесить — не вешай носа.
Ну а теперь шутки в сторону, и все по порядку.
За водкой велели не занимать, и по очереди прокатилось беспокойство. Счет пошел на секунды, и через несколько минут все набросятся на плодово-ягодное. Или на розовый вермут.
Стоишь и ломаешь голову: розовый вермут на два градуса крепче, зато плодово-ягодное на двенадцать копеек дешевле. Но я успел проскочить и, не сойдя с дистанции, затарился без головоломки с вермутом. Я купил три бутылки “Столичной”, бутылок восемь пива и пять бутылок апельсиновой воды для Сережи. А когда уже подходил к бараку, то чуть не столкнулся с бывшим Зоиным мужем и с его матерью или, как ее называет Зоя, свекрухой. Они живут по соседству (тот же самый барак, только вход с другой стороны), и Зоин муж (отец Сережи) все еще у Зои прописан. Вернее, прописан я, а он так и не выписался, не дает паспорт, и все; а моя прописка, выходит, Зое нужна, мало ли, вдруг запретендует на комнату, получали-то вместе. И свекруха, покосившись на торчащие из моей сумки бутылки, как-то мстительно ухмыльнулась (Зоин муж — алкаш и уже два раза лечился от запоя).
Зафиксировав со стороны ступенек топот (я отбивал на крыльце налипшую вместе со снегом грязь), из кухни высунулась Лаврентьевна и, всплеснув руками, закричала в глубину коридора:
— Зо-о-я-а... иди встречай... — и, бормоча уже себе под нос “приехал... приехал наш путешественник”, склонилась над внушительной кастрюлей.
Хозяйничая на кухне, Лаврентьевна всегда сидит на стуле. Как на посту. Сидит и наблюдает за обстановкой. Закроет глаза и как будто дремлет. Но все равно все слышит. И если кто-нибудь чужой, пощады не жди. А сегодня Лаврентьевна не дремлет: сегодня в бараке гульба.
С перекинутым через плечо полотенцем Зоя вышла мне навстречу и, уперев руки в боки, снисходительно заулыбалась. Готовый в любую минуту раздвинуться, вырез ее халата держался на спусковом крючке.
Зоя мне говорит:
— Ну что... студент прохладной жизни... изволили явиться...
А я стою как дурак и молчу, а сам все продолжаю смотреть на вырез; а стоит мне его только представить — и я начинаю терять чувство времени,
а также ощущение пространства. (А когда еще летели над Омском, то, уткнувшись в иллюминатор, передвинул на восемь часов стрелки, как будто уже Магадан, все витал в облаках; и когда расстегнули ремни, надо уже выходить, а у меня впереди торчит, как-то все-таки неудобно, люди; и когда покупал в гастрономе водку, все тоже витал, и даже когда шел по городу мимо памятника Владимиру Ильичу.)
— Явился... не запылился... — Точно доставив сбежавшего из-под стражи преступника, Зоя меняет интонацию, и, опережая всех остальных, еще не успевших переварить эту новость, Нина Ивановна хлопает в ладоши:
— Толька... приехал... — В каком-то радостном изумлении чуть ли не с шепота Нина Ивановна уже не укладывается в октаву (наверно, все-таки не зря меня заставляли играть в музыкальной школе гаммы), и по градусу достигнутой ноты угадывается, что гуляют с одиннадцати утра.
(Та самая, помнишь, из Зоиной бригады. У них там на заводе сплошная “родня”, и все обо всех все знают, у кого какой “болт”. Например, короткий и толстый; или наоборот — тонкий и длинный.
Мне Зоя сама рассказывала, как у ихнего начальника цеха.
Я у Зои спросил:
— Ну и как?
Зоя засмеялась:
— Все равно что гвоздем.
А еще бывает винтом. Это уже рассказывала Нина Ивановна. Как у ихнего фрезеровщика. И говорит, что ничего. Приятно. Только немного щекотно. Но больше всего Нина Ивановна любит “опыляться по утрянке”.)
Если придерживаться паспортных данных, то Нина Ивановна должна отмечать день своего рождения раз в четыре года: она родилась 29 февраля. Но Нина Ивановна с этой ошибкой природы мириться не желает и, наперекор календарю, устраивает себе именины гораздо чаще: по субботам и по воскресеньям вместе со всей страной и по скользящему графику в будни. Но иногда все дни недели сливаются в один сплошной праздник, и после каждого такого “заплыва” у Нины Ивановны под глазом красуется фингал.
Нина Ивановна приехала в Магадан из Молдавии и, будучи еще двенадцатилетней девчушкой, сумела склонить к сожительству сорокалетнего гуцула. Так что на фоне своей сентиментальной подруги Зоя напоминает еще не распустившийся бутон. (Когда я пишу о Бродском, то, сравнивая его с Высоцким, охватываю небом всю землю. А когда пишу о Зое, то, сравнивая ее с Ниной Ивановной, затягиваю небо в пруд. И в синеве отражения в самой глубине угадывается омут.)
Перегнувшись через весь стол, тянет мне руку сидящий рядом с Ниной Ивановной Витенька. Витенька — ее кавалер и уже отмантулил два срока — не то за хулиганство, не то за бандитизм. Но читает “Диалоги” Платона и знает чуть ли не наизусть все сны Версилова из “Подростка”. Он как-то Зое сказал, что в Магадане я единственный человек, с кем ему интересно поговорить.
В лагере Витеньку за его начитанность прозвали Монахом. И его там уважали. Там ведь кто сапожничает, а кто педрила. А вот Витенька читал книжки.
И теперь на всей Колыме он, пожалуй, самый образованный человек.
Я привез Витеньке в подарок “Милицейский протокол”. В Магадане его еще никто не слышал.
Витенька от Высоцкого фонареет. В особенности когда слушает “Дайте собакам мяса”. Он меня эту песню обычно заставляет прокручивать по нескольку раз. Высоцкий поет: “Мне вчера дали свободу — что я с ней делать буду?..” А Витенька засосет очередной стакан и плачет. Потом как звезданет по столу кулаком. Или рванет скатерть. Нина Ивановна с Зоей все подбирают, а я Витеньку успокаиваю.
А когда с ним ведем диспут об экзистенциализме, то Зоя все над нами смеется:
— Ну ты, — улыбается, — Кюмю… Давай, что ли, наливай!
Досадуя на вынужденный простой, с гармошкой наизготове озабоченно осклабился Павлуша. Павлуша — наш сосед по бараку и по совместительству мой “внештатный сотрудник”. Но в такую минуту об этом как-то не хочется вспоминать.
(Однажды я, правда, не выдержал и его прищучил. Уж больно, думаю, подозрительно: все угощает да угощает, и все “Агдам” да “Агдам”. Наверно, решил, не к добру. Ну и прижал его после второй бутылки к стенке.
— Ну признайся, — говорю, — Паш, а Паш... мы же свои, — улыбаюсь, — люди... Ну признайся, — повторяю, — что стучишь... да я… — и хлопаю его по плечу, — да я и не обижусь...
Другой бы на его месте после таких слов сразу же отвернул мне тыкву: ведь шуточное ли дело — стукач! А он размазал сопли — и как с гуся вода.
— Да ты это, — говорит, — че... да ты это... — шмыгает носом, — брось...
А сам все продолжает моргать. И мне его даже как-то сделалось жалко.