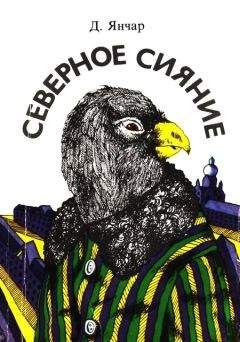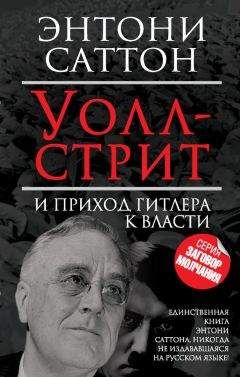Включив ночник, я увидел, что в руках сжимаю часы, а время — три часа утра. Значит, в два мне снился сон. Но как, черт побери, мог мне сниться сон, если я тем временем смотрел на часы? Весь в поту, я не мог понять, что происходит.
Симпатичной хромоножке на почте я отдал вторую телеграмму. Теперь было ясно: случилось что-то неладное. Во время обеда сидел за столом с тем торговым агентом, Пешичем из Загреба, который, оказывается, продает мотоциклы, дела его идут хорошо, о чем и свидетельствует толстая цепь, надетая на жилет, чтобы все видели и знали. Через посредничество местных немцев он ввозит товар и гонит его на юг. Так и сказал: гонит. Он хотел развлечься, но я не желал ему в этом помочь. Перед стойкой администратора я наткнулся на чеха, оказавшегося тоже весьма общительным. Поговорил и с ним. Теперь разговариваю с каждым кому не лень, превращаюсь в типичного вестибюльного болтуна. Да и понятно: забыться хочу, неопределенность начинает меня тревожить. Действительно не знаю, что предпринять. Если уеду, а Ярослав объявится и будет ждать тут, когда же мы за дело возьмемся? Если останусь…
Разговаривал, стало быть, с чехом. Он обрадовался, когда я сказал, что служу в фирме «Я. Щастны энд компани». «Я» — это Ярослав, пояснил я. В Германии? Да, в Германии. Но Я. Щастны из Вены, он австрийский чех. Мы пили кофе, он говорил о политике, я об антропологии. Его не интересует антропология, меня же не волнуют его политические взгляды. Наверняка тот антрополог демонстрировал женщину-обезьяну, она молода и полна жизни. Интересно, что он с ней сделает после демонстрации? Посадит в клетку? Даст почитать Вольтера? Это чеха не интересовало. Какой-то пьяница так на меня наорал, что я не знал, куда деться. Топтался рядом и орал, совершенно невозможно было понять, чего он хочет. Может, спутал меня с кем-то, или же в его пьяной башке помутилось. Мне даже показалось, что вот сейчас он меня ударит. Прямо так, без причины, и удар был бы столь же логичен, сколь логичны были вопли. Чех с помощью официанта вывел его из зала. Может быть, со мной действительно что-то происходит, может, я как-то вызывающе себя держу, потому все и пристают ко мне днем и ночью.
Несмотря ни на что, чех действует на меня успокаивающе. Умеет слушать, хотя мои темы его и не интересуют, отвечает ровным мягким голосом. Вечером разыскал его, и мы распили бутылочку. Его зовут Ондра, по профессии инженер, специалист по прядильному оборудованию. Приехал отлаживать станки к местному текстильному магнату, имени которого я не запомнил. Сам Ондра родом из какой-то моравской деревушки, хотя постоянно живет в Брно. Брно — закопченный и грязный город, штукатурка осыпается с домов так же, как и здесь. Судя по его рассказам, Брно и в самом деле мрачный город, однако полон симпатичных девушек — хоть это хорошо. Его рассуждения вроде воспоминаний родителей о том, как я помял цветы на грядках или как мы когда-то ели тут сочную фасоль. Вот и его деревушка весной такая красивая! Все вокруг зеленеет и цветет, а летом пахнет полем. Ему никогда не привыкнуть к этим прокопченным городам, таким одинаковым. И тем не менее именно в городе проведет он всю жизнь. В моравской деревушке все другое. Но что поделаешь, коли там нет ткацких станков. Странно, я всю свою жизнь провел в городах и никак не могу себе представить, что в одной деревне цветы пахнут лучше, чем в другой. Не «лучше», сказал Ондра, а «прекрасней». Но я и этого не смог понять. Напротив, я даже думаю, что там чаще воняет навозом, а осенью можно утонуть в грязи и что воздух в этих «горницах» и «светелках» спертый и затхлый.
4
Сначала я слонялся у реки, потом ходил по окраинным притонам, по узким туманным улицам, круто поднимавшимся вверх к городу. Неожиданно увидел человека, чье лицо показалось мне знакомым. Это был старик в ветхом пиджачке, с всклокоченной бородой и красным носом в прожилках, с черными воспаленными, лихорадочно блестевшими глазами. Он размахивал руками и непрестанно что-то бормотал. Я подошел ближе и понял, что он говорит по-русски, быстро, проглатывая окончания, так что невозможно разобрать ни слова. Теперь вспомнил: я столкнулся с ним пару дней назад, в день моего приезда, на Александровой улице, в тот безлюдный и темный час он вещал мне о Воскресении Христовом, что-то вроде пасхального поздравления. Старик в рваных ботинках и ветхой одежде замер перед входом в кабак, что-то пробормотал и исчез внутри. Необъяснимое любопытство потянуло меня за ним. Я вошел в темное подвальное помещение, настолько темное, что поначалу ничего не мог разглядеть. В ноздри ударил застоявшийся запах самогона, мужского пота, грязного непроветриваемого помещения. За столиком сидели четверо и, окутанные табачным дымом, шумно резались в карты. Старик сел в отдалении, в углу, все так же бормоча и шаря руками по столу. Хозяин воззрился на незнакомца в дверях, от любопытства так раскрыв рот, что лицо его приняло идиотское выражение. Я в свою очередь отметил, что такой ямы в жизни своей не видал. Бывал и в пражских, и в немецких пивных, да и в некоторые окраинные вертепы приходилось заглядывать, но такого мрака средь бела дня видеть не приходилось. Тут ужасно воняло самогоном, жутким, черт знает из чего сделанным самогоном. Я все же заказал стаканчик и, превозмогая отвращение и спазмы желудка, явно не желающего принимать эту маслянистую жидкость, выудил у хозяина, что старик в самом деле русский, обитает он в городском доме призрения, постоянно шатается по округе, а заботятся о нем русские эмигранты. Фамилия старика Федятин, и здешние русские считают его провидцем. Однако он, хозяин, полагает, что старик просто-напросто слюнявый идиот, пьющий «шнопс». Теперь пришла очередь кабатчика задавать вопросы, но я расплатился и вышел.
5
Ондре, чешскому инженеру из той моравской деревушки, где цветы «прекраснее», я рассказал, что видел на окраине. Ондра озабоченно кивал. Местные коллеги-инженеры в первый же день предупредили его, что там, внизу, ему делать нечего, если он не желает остаться без кошелька, часов или шляпы. В лучшем случае он чего-нибудь лишится, в худшем — приобретет, скажем, ножевую рану и шрам на всю оставшуюся жизнь.
— Что же касается этого вашего русского, как, простите, вы его назвали?..
— Федятин.
— Вот-вот, Федятин. Что же касается этого Федятина, то тут все очень просто. Это так называемый божий человек, блаженный. В России до большевистского переворота их было тысячи, десятки тысяч, каждая деревня хоть одного имела. Ходят эти странники божьи по земле и провозглашают Воскресение Христово. Никто их не трогает, ибо это люди божьи, а когда впадают в транс, то бьются в падучей и видят некие апокалипсические картины или что-то в этом роде. В основном это — неграмотные мужики, однако в предреволюционные годы это русское безумие охватило и высшие слои общества. Слыхали вы о Распутине?
— Да.
— Ну так вот, Распутин и был одним из них. Не без его участия все окончательно обезумело и захлебнулось в крови в этой их России.
И тому, что происходит там сейчас, было у Ондры объяснение. Это такая религия, сказал он, ведь Сталин — выходец из семинарии. Так вот: это все учения старых религиозных сект, причудливо соединенные с немецким и еврейским понятием о равенстве. Однако меня интересовал Федятин. Всякий раз, когда я вспоминаю о нашей первой встрече, меня охватывает непонятное чувство.
— Были времена, когда эти люди божьи разжигали настоящие массовые психозы, — сказал Ондра. — Самоистязание и ритуальные оргии, голые по камням и терниям — черт знает что творили. Бог мой! И это зовется у них христианством! Нет, — резко махнул рукой Ондра, — нам, европейцам, и не представить такого безумия. Даже Христос у них другой. Темный. Разумеется, не в прямом смысле, я его таким себе представляю.
Меня поразило, что моравский инженер, приехавший сюда налаживать станки и постоянно вспоминающий о своей деревушке, размышляет о таких вещах.
— Как же не размышлять, когда их и у нас полно.
— Божьих?
— Русских имею в виду, — сказал он, — но и божьих среди них, разумеется. Вы не представляете себе, сколько их после большевистской революции хлынуло из тех степей, из-за широких рек и разлилось по Европе! Пароходы в Константинополе ломились от господ, попов, мужиков и белогвардейцев. Вся Европа провоняла их православием и ладаном.
Интересно и образно говорил Ондра, однако слишком уж общо и не совсем то, что меня интересовало. Конечно же, все можно объяснить и так, но меня интересует, что собой представляет божий человек, что за видения его посещают? Ученые упорно бьются над вопросами телепатии, внушения и тому подобными, одержимо разыскивают людей с медиумическими способностями, но отчего-то никому не придет в голову исследовать под микроскопом такого вот блаженного, подвергнуть научному исследованию такого вот Федятина. Изначального человека. Нельзя из знаменитой Евы Ц. вытянуть бог весть что. И хотя она, без сомнения, лучший медиум из всех, жизнь ее проходит в спиритических салонах, в женском обществе. Поэтому представления ее хоть и выходят за границы ее собственных эманаций[4], все же не продвигаются дальше эротических картин и фаллических мотивов. Федятин же — иной мир. Я не сомневаюсь в этом, ибо тем утром что-то меня встревожило, я не знаю, что именно, нечто такое, чего я не могу постичь разумом. И сейчас, когда он блуждает по городу, который все же нечто иное, чем его Поволжье, или откуда он там взялся, осознает ли он, что кругом совершенно другой мир? Что все кругом переменилось? Ведь, судя по его облику и жестам, по его взгляду, он знает, что ничего не изменится. Неизменно то, что он носит глубоко в себе. Конечно, можно смотреть на вещи и с точки зрения кабатчика, мол, несколько странный псих, но в сущности всего лишь слюнявый пьяница и придурок. Но стоит мне именно так подумать, как возникает вопрос: почему именно он встал на моем пути в то новогоднее утро, почему в первый день года кричал он свое «Христос воскресе!» всем встречным и поперечным? Кроме того, по-моему, у них эти праздничные дни как-то иначе распределены. Возможно, его что-то взволновало: всеобщее веселье, яркие окна, пьяные на улицах. Одного мне не понять никогда: почему я должен был его встретить?