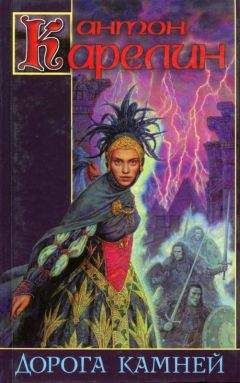Он ничего не ответил. Просто осторожно перешагнул через поваленную изгородь, отнёс свой мокрый пакет на веранду и обернулся к ней, ожидая приказаний.
— Я принесу верёвку, — сказала она, двинувшись к сараю — тонкая фигурка в слишком широкой мужской вязаной куртке, опускавшейся ей чуть не до колен. Её тёмные волосы, собранные в узел, уже намокли от моросящего дождя.
Она скрылась в сарае, ещё более ветхом, чем дом, и вернулась оттуда с верёвкой.
— Старый шнур, — сказала она, — может быть, выдержит.
И подала ему верёвку.
— Чего ж ты ждёшь? Оттащи под тот кедр. Забрось верёвку и подвесь тушу на сук.
Она запнулась, потом добавила, будто извиняясь:
— Он слишком тяжёлый для меня. А остальное я все могу сама.
Анджело послушался, и скоро олень повис как полагается: вниз головой. Его крупные, в золотых крапинках глаза застыли, вывалившись из орбит; за левым плечом торчала стрела, и из раны сочилась кровь.
— Крупный самец, — сказала женщина, разглядывая тушу. — Фунтов на сто семьдесят пять. Восемь отростков.
— Чего? — спросил Анджело Пассетто.
— Отростки на рогах, — сказала женщина. — Ему восемь лет.
Она глядела на оленя. Потом протянула руку и коснулась пальцем мягкой шкуры в паху, где коричневое переходило в палевое. Потрогала засохшую корочку крови.
— Восемь лет, — сказала она, — бегал по лесу и вот дождался — пристрелил его Сай Грайндер из своего дурацкого лука.
Она поглядела на свой палец, измазанный кровью, и обтёрла его о подол.
— Мисс, — сказал Анджело Пассетто. — А что теперь? Что надо делать?
— Что делать? — повторила она, поглядев на Анджело так, словно видела его впервые. — Свежевать, вот что. Я принесу нож.
Взяв у неё нож, он сперва отошёл к крыльцу, снял свой клетчатый пиджак, заботливо, почти любовно свернул его и положил на крыльцо где посуше, однако по ступенькам подниматься не стал. Потом закатал рукава белой рубашки, оголив смуглые сильные руки.
Он взял нож, испробовал лезвие, срезав волосок с руки, потом осторожно, словно не доверяя земле под ногами или будто оберегая туфли, приблизился к оленю, с неожиданной ловкостью оттянул голову за рога и, когда горло оленя вздулось, вонзил в него нож и резанул поперёк; кровь хлынула, и он отступил.
Он стоял, держа рог и нагнувшись к оленю, словно танцор, склонившийся к партнёрше. Оттягивая голову, он держал разрез открытым; кровь хлестала на лежавшие на земле кедровые иглы и сухие веточки; они всплывали и кружились в красных парных ручейках, прокладывавших себе путь по неровной земле.
— Что же ты спрашивал меня, раз ты и сам умеешь?
— Я умею, но только не… — он замолчал, вспоминая слово, — не Санта Клауса.
— Где ж ты выучился? — спросила она.
— Мой дядя, — сказал он. Потом: — У него была эта… ферма. Я выучился у дяди на ферме.
Потому что, когда отец умер, его послали в Огайо к дяде, и он работал там на ферме, ненавидя и дядю, и ферму, самого себя и весь мир. Пока однажды не сшиб дядю с ног ударом кулака и не удрал в Кливленд, а там — гулянки, выпивки, бешеная езда и зеркала, отражавшие Анджело Пассетто, когда он снова и снова проводил расчёской по черным шелковистым волосам.
— Что это ты говоришь не по-людски?
— Я… Сицилия.
Она разглядывала его, а он стоял в тени огромного кедра, опустив руки и держа нож кончиками пальцев, а кровь у него под ногами впитывалась в землю.
— Вот отчего ты такой смуглый, — сказала она.
— Сицилия, — повторил он равнодушно; он ждал, что она будет делать дальше.
Кровь уже не текла из разреза, только капли по одной срывались с мокрой морды и падали в лужу.
— Куда ты идёшь? — спросила она.
Он поглядел на дорогу и не ответил.
— Эта дорога никуда не ведёт, — сказала она. — Просто кончается там, и все. Раньше здесь стояли богатые дома. Потом землю смыло, все ушли. — Она замолчала, словно забылась.
— Дом моих родителей стоял вон там, — снова начала она. — Высокий, светлый. И ферма была большая. Это когда я была ещё девочкой.
Она замолчала, и он посмотрел на неё, соображая, сколько же с тех пор прошло лет. Он пытался представить себе её девочкой, но не мог. Лицо её было бледно и замкнуто.
И вдруг с пугающей прямотой она поглядела ему в глаза.
— На этой дороге жилья больше нет, — сказала она. — Кроме дома Грайндера.
Она помолчала.
— Это который убил оленя. Навряд ли он ждёт тебя к ужину, как ты думаешь?
Она снова залилась задорным девичьим смехом и сверкнула тёмными глазами.
И опять смех оборвался, и лицо её стало словно белая маска.
— Ты можешь остаться здесь, — сказала она, глядя на него равнодушно. — Комнат тут хватает. Еду и кров я тебе обеспечу. И заплачу что смогу. Мне нужен помощник. Раньше тут было полно работников, но они все ушли. Последний ушёл весной. Старый негр, который почему-то задержался дольше остальных. Он жил вон в той хижине. Потом взял да ушёл.
Он обернулся и поглядел на дорогу.
— Ты сможешь уйти, когда тебе вздумается, — все так же равнодушно сказала она. — Помашешь ручкой и пойдёшь, никто тебя держать не станет.
Он снова посмотрел на неё. Заложив руки за спину, она прислонилась к углу веранды, словно была без сил. На её узких опущенных плечах висела широкая старая коричневая куртка. Лицо её было бледнее прежнего, глаза глядели безучастно. Шёл дождь, а она так и стояла с непокрытой головой. Несколько прядей тёмных волос прилипли к мокрой щеке. То ли она не замечала этого, то ли ей было всё равно.
— Ладно, — решил он. — Остаюсь.
Да, пожалуй, стоило остаться. Им и в голову не придёт искать его здесь.
Маррей Гилфорт осторожно вёл свой новенький, ослепительно белый бьюик по разбитой каменистой дороге вдоль ручья. Хотя он мог себе позволить ездить в белой машине с откидным верхом и обычно держал верх открытым и даже снимал шляпу, чтобы подставить лицо солнцу, но отказаться от темно-серого костюма, застёгнутого на все пуговицы, тёмного галстука и строгих чёрных полуботинок он не мог. Разве что в жаркий день. День сегодня стоял ясный, чистый, солнце припекало, однако в воздухе была прохлада, а когда машина Маррея Гилфорта въезжала в тень или приближалась к ручью или к обрыву, чувствовался холодный ветерок, будто подводный ключ в теплом озере. Так что, едва въехав в долину, он застегнул своё серое твидовое пальто и аккуратно надел серую фетровую шляпу.
Да, Маррей Гилфорт мог себе позволить ослепительно белый бьюик. Но, глядя в трельяж лучшего портного Чикаго и видя своё округлившееся брюшко, бледность, которую не удавалось скрыть ни солнечным, ни искусственным загаром, лысеющую круглую голову с начёсанными на лоб волосами, он каждый раз приходил к убеждению, что светлый костюм уже не для него.
Впрочем, это было не убеждение, а скорее смутная печаль, которая порой обращалась в беспричинное раздражение, и он ни с того ни с сего делал портному резкое замечание, а то с надеждой бросал взгляд на свой профиль в боковом зеркале, отмечая, что у него хороший прямой нос, и героически втягивал живот. С некоторых пор, глядя на какого-нибудь седого и плешивого портного, присевшего на корточки, чтобы отметить длину его брюк, он тешил себя мыслью о том, что, наверное, этому старику давно уже отказано в кое-каких земных удовольствиях; при этом он испытывал к портному приятную жалость.
Маррей упрямо притворялся, что не помнит, откуда пошла эта жалость.
Он был тогда делегатом конференции юристов в Чикаго, приехал один — жена его была нездорова. Однажды вечером он выпивал с известным вашингтонским адвокатом — крупным, полным мужчиной с ранней сединой и правильными чертами лица, Алфредом Милбэнком, которому нравилось, когда его принимали за Стетиниуса, тогдашнего государственного секретаря; и вот этот Милбэнк после минутного молчания решительно поставил на стол пустой стакан и заявил:
— В этом самом Чикаго три миллиона населения, и половина из них — в юбках. Я не намерен пройти мимо этого факта.
Сказав так, Милбэнк вытащил книжечку в чёрном сафьяновом переплёте и начал листать её. Найдя нужную страницу, он ухмыльнулся во всю ширь своего раскрасневшегося лица.
— По-моему, Гилфорт, — сказал он, — тебя это тоже должно заинтересовать. Ты, Гилфорт, уже не молод. Жена твоя — уж ты не обижайся — тоже молодостью не блещет. Но если, воспользовавшись услугами Матильды или Алисы, — он постучал холёным пальцем по книжечке, — ты вспомнишь молодость и вернёшься к себе в Теннесси с новыми силами да тряхнёшь стариной на радость супруге, ей это придётся по вкусу. Она сядет на диету. Сделает новую причёску. Она станет прислушиваться к тому, что ты говоришь. И она…
И внезапно с ощущением вины, тут же превратившейся в обиду на жену, Маррей подумал, что Бесси и впрямь так располнела; что даже матрац на её стороне постели весь промялся, а за бриджем, когда она держит в руке карты, видно, какие у неё пухлые пальцы. И ещё эта привычка причмокивать!