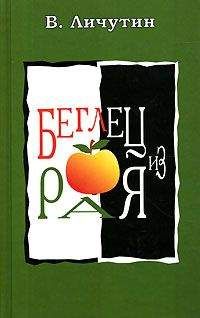Зулус надвинулся животом, и я невольно уперся ладонями в тугие жиловатые мяса, пытаясь оборониться квелыми ручонками. Но куда там, разве каменную стену сдвинешь? Мелькнула мысль: ухватить, что ли, за корень? Но неприлично как-то, неудобно, ведь не война же, не убивать же явился Зулус, да и чем таким особым насолил я, горожанин, Федору Горбачеву, который за дочь свою единственную готов любому голову открутить.
Зулус напирал брюшиною с озорством иль с тем нахальством сытого, благополучного человека, что без зазрения совести истирает беспомощного в порошок; и ладони мои ослабли и невольно оскользнули в пашину к налитым соками ядрам.
– Ну больно же мне, ой как больно! – завопил я. Это Зулус вдруг подцепил меня, будто крючьями, за обе щеки и, сдирая с них кожу лафтаками, подбросил в занебесье. Я долго летел меж пуховыми белояровыми облачками, меж сенных копен, выставленных вышним работником, и причудливых дивных птиц, похожих на райских лебедей, спиною карминно-желтых, а в подбрюшье младенчески розовых, и все пытался, кружась, взмоститься божьей птице на взгорбок меж медленных крыльев. Но все было впусте, Господь насегда оставил меня, и вот я камнем грянулся наземь, угодил на бетонный старинный крест, безо всякой нужды лежавший у сарайки, оставшийся еще от прежнего хозяина, а ныне густо обросший крапивой и цветущим пустырником. Но отчего-то сразу не испустил дух; не под моей ли тяжестью, но земля вдруг расступилась, как от землетрясения, и подо мною оказалось бездонное провалище, но я не рухнул вниз, но как бы поплыл на кресте, кругами опускаясь вниз, как на ковре-самолете: пропасть была прозрачно чиста, словно осеннее ночное небо, когда видна невооруженному глазу каждая звездная пылинка, и, изумясь, уже позабыв Зулуса, я воскликнул: «Господи, какая там глубина!» И застонал от неведомой боли, скрутившей сердце, от тоски, что уже никогда мне не бывать на земле...
– Сынок, проснися. Ну что ты кричишь как зарезанный. – Мать с тревогою трясла меня за плечи. Я беспамятно еще, с великим трудом открыл натекшие плесенью глаза, едва понимая, что все мне лишь набредилось. Сквозь едкую накипь слез увидал размытое, такое родное материно лицо, туго обтянутое морщиноватой кожей, смуглое, слово бы навсегда прокаленное однажды сухим жаром июльского полдневного солнца, с круглыми сорочьими глазами. Мать гладила мою голову птичьими прозрачными лапками, будто помазывала меня глухариным крылышком, как сдобный рыбный пирог, и участливо укоряла: – Ну что ты, сынок, не ко времени улегся спать. Воля, Пашенька, человека портит. А ты волю почуял. Вот так и сгниешь на диване и лет своих не услышишь... А я-то, Пашенька, до семидесяти годков возраста не знала, думала веком так – бегом да вприскочку. Бывало, схвачу корзину да в лес по ягоды. В лес тропкой не браживала, все прямиком. Сучья из-под ног, как воробьи, только отлетывают...
Я сел на диван, остужая ступни о половицы крашеного пола, сердце отчаянно колотилось, готовое выскочить из грудины; и никак не мог взять в толк: иль я кого надысь укокошил, иль меня нынче прикончили. Сон призатуманился, потерял остроту, но в груди оставался дурной осадок, как предчувствие чего-то неизбежного. Мать бродила по избе неторопливо, часто прихватывалась, будто невзначай, то за дверной косяк, то за край столешни иль, приподняв конец вафельного полотенишка, задумчиво гладила приотмякшую стряпню, прищипывала пироги за румяные боки, стукала по донцам кулебяки с рыбою – не отволгли ли. Сорок лет Мария Степановна простояла на пекарне у квашни, тонны теста понянькала руками, без устали кормила деревню хлебами, и там – под столом на полу, повеянном тонким снежком мучных высевок, – не однажды сыпывал я, окруженный хлебенными запахами.
Наклонившись над пирогами, мать бормотала:
– Нынче праздник, дак печеное ись надо. Когда праздник, дак печеное едят. Так у нас в Нюхче исстари велось. Иль позабыл, Паша? А тут, в Жабках, будто и не люди живут. Все покупное, одни батоны, зубы не берут. В худое место ты приволок меня, Паша... И на кой ты волочишь меня за собою, как чебодан без ручки? На кой ляд я нужна тебе, старая? Вот доживешь до моих лет и поймешь, что старым людям надо на одном месте сидеть. Потому что стары люди никому не должны мешать.
Я краем уха слушал привычную материну песню, не вникая в ее смысл. Грустная была та песня, с намеком о близком конце, де, смерть за дверью, де, хватит терзать старую, а вези-ка без промешки к родным могилкам. Где ни бегай по свету, а ложиться надо в свою землю.
– Увез бы ты меня, Паша, домой. Изба еще совсем хороша, а имения сколько зазря пропадает, наживано ведь было, сколько труда трачено. Дров за два года не истопить, да шуба овчинная, да пальтов целых три, да платьев большой сундук. И, эх, сынок, живу я тут у тебя, как мыша в чужом чулане, и ворохнуться боюсь. А вдруг что не так... А на родине, бывало, иду, всяк поклонится и приветит: «Здравствуй, Марья Степановна. Скажи, голубушка, как живешь-здравствуешь». А туть немтыри, ей-богу, глаз навстречу не подымут, губ не разожмут, словечка доброрадного не кинут...
Что тут сказать: воистину, родина притужает христового человека, не дает спокойно спать, все зовет к себе, подбивает в боки середка ночи, все позывает бежать на станцию за билетом: де, не опоздай. А раздумаешься – и оторопь: куда, братцы, ехать, коли все сгнило и порушилось. Великая страна пропадает, можно сказать, ни за полушку; лишь тем и живет, что припала к нефтяному кранику. Бог милостыню кинул невесть за какие заслуги; а перекрой последнее – и от жажды околеет.
– Был я, матушка, в нашей Нюхче, ведомы мне твои сказки. Нынче каждая побрехонька для тебя как сусальный леденец, а не студеная сосулька.
Пять лет тому едва добрался на случайной попутке, чуть коньки не отбросил, когда через Кен-озеро в кузове ехал. Погрязла деревнюшка в снегах, сиротские дымы кое-где, тропка по порядку едва видна, хлебов неделю не привозили – дороги нет. Сугробы по окна, будто все вымерли, едва пробился к родному порогу. Зашел в дом, мать и не ждала. Сутулится у буржуйки, как нищенка, в старом салопе, подпоясанном веревкою, лицо в саже, на коленях чашка с варевом, руки в рукавицах, ложку едва держит старая, глаза окуневые от дыма, чуть видят, обметаны трахомою. Эх, вдовья жизнь что редька с квасом: и брюхо набил до изжоги, а урчит, словно не ел. Увидала, встрепенулась, а встать не может. Заплакала, стянула варежки, а ладони словно кипятком обварены, кожа слезла. Взмолилась, запричитывала:
– Бог тебя послал, сыночек, услышал мои моленья. Пашенька, не могу боле тут жить. Устала. Не могу боле...
И вот три года побыла на стороне, и нынче каждый прожитый день как каторга, словно родная деревнюшка медом намазана. А куда везти? Старого одра с живодерни не ворачивают; поди, пропал совсем домишко за эти годы; и прежде в подоконья кулак проходил, мыши половицы изъели, жучок потолки источил в труху: плечом подтолкни – и посыплется изобка. Одни дрова, одни дрова, только некому топить...
Ни шатко ни валко бродит Марьюшка по избе, но дело-то из рук не выпадает, пока не валится. Вот и самовар зачуфыкал, взгромоздился пузатый на стол, и пироги, как жареные караси, заняли свое место; хотя печеному-вареному не долог век, и брюхо добра не помнит, но есть и у деревенской стряпни особенные, непередаваемые в словах минуты, когда ласкает она взгляд печищанина, как малое дитя, которое хочется погладить ладонью, как бы снять с доверчивой макушки телесную теплоту и упрятать ее в сердце, будто пенку с топленого молока. И несколько минут глядит на них старенькая зачарованно, словно боится распушить, распугать, разрушить порядок пирогов на столе и лишить их самодовольной жизни.
«Столько и нажились, – наверное, подумает каждый, жалостливо провожая взглядом последний пирог, исчезающий в ненасытном животишке. – И, эх, милай, только народился, и уж помирать пора; вроде и зазря на свет белый пихались, гордовато млели, пухли в яром печном жару, претерпевая страдания, подпрыгивая на каленом железном противне. А может, и не зря – все же человечью жизнюшку продлили, душу повеселили, подтолкнули ее, пусть и на мгновенную, скоро угасающую, но радость быванья на матери-земле».
Я сгорбатился за столом, как кошак у блюдца с молоком, уже не видя в нем интереса, и в тихом благорастворении, лежащем на лице Марьи Степановны, никак не могу отыскать для себя укрепы. Перевожу взгляд в бокастый самовар, занимающий всю вселенную, и нахожу там кривое расплывшееся рыло с седым клочем бороды, редкое облачко заснеженных волос, похожих на отцветающую шапку плешивца, – дунь ветер, отлетят пуховинки с одуванчика, – мясистые уши топориком.
Может, на самом деле я куда приглядчивей, фасонистей, особенно если марафету навести, но в медном зеркале отражается мой внутренний раздрызг и неустрой, когда искривленные, взбулгаченные сном чувства в самом безобразном виде вылезли на мою физиономию.