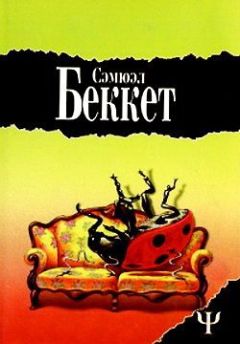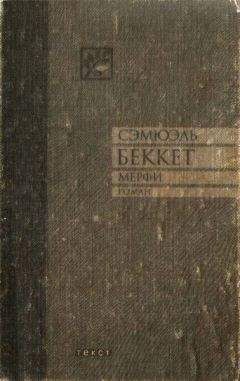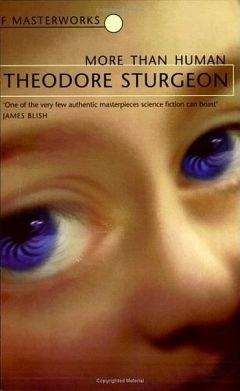Камье подчинился.
Время от времени небо светлело, а ливень слабел. Тогда они, по-видимому, останавливались в дверях. Что служило небу сигналом опять потемнеть, а дождю подбавить ярости.
— Не смотри, — сказал Мерсье.
— Достаточно звука, — сказал Камье.
— Это правда, — сказал Мерсье.
Помолчав немного, Мерсье сказал:
— Тебя собаки не беспокоят?
— Почему он не вынимает? — сказал Камье.
— Не может, — сказал Мерсье.
— Почему? — сказал Камье.
— Одно из маленьких технических приспособлений природы, — сказал Мерсье. — Позволяет быть вдвойне уверенным, что осеменение состоялось.
— Они начинают верхом, — сказал Камье, — а кончают задом-наперед.
— А ты бы чего хотел? — сказал Мерсье. — Экстаз миновал, они жаждут разъединиться, пойти и пописать напротив почты или съесть кусочек дерьма. Но не могут. Вот и трутся задницами друг о друга. Ты на их месте делал бы так же.
— Деликатность удержала бы меня, — сказал Камье.
— И что бы ты делал? — сказал Мерсье.
— Изображал бы сожаление, — сказал Камье, — что не в состоянии незамедлительно возобновить столь сладостные непристойности.
— Помолчав немного, Камье сказал:
— Давай усадимся. Я себя чувствую совсем высосанным.
— Ты имеешь в виду, усядемся, — сказал Мерсье.
— Я имею в виду, усадимся, — сказал Камье.
— Ладно, — сказал Мерсье, — давай усадимся.
Трудяги принялись опять за свое, воздух наполнился криками удовольствия и боли, и более изысканными звуками тех, для кого жизнь исчерпала свои сюрпризы как с положительной, так и с отрицательной стороны. И дело шло все серьезнее. Дождь напрасно поливал изо всех сил, довольно было бы с него просто начинаться и начинаться, с пылом всего лишь не меньшим, чем если б небо оставалось голубым и безоблачным[5].
— Ты заставил меня ждать, — сказал Мерсье.
— Наоборот, — сказал Камье.
— Я пришел в девять ноль пять, — сказал Мерсье.
— А я в девять пятнадцать, — сказал Камье.
— Вот видишь, — сказал Мерсье.
— Ждать, — сказал Камье, — и заставлять ждать может иметь место только относительно предустановленного момента.
— И на сколько же мы с тобой, по-твоему, договаривались? — сказал Мерсье.
— Девять пятнадцать, — сказал Камье.
— Прискорбное заблуждение, — сказал Мерсье.
— В смысле? — сказал Камье.
— Ты не перестаешь меня удивлять, — сказал Мерсье.
— Объяснись, — сказал Камье.
— Я закрываю глаза и снова переживаю это, — сказал Мерсье, — твоя рука в моей, слезы наворачиваются мне на глаза, и звук моего дрожащего голоса. Да будет так, завтра в девять. Мимо проходит пьяная женщина, поет похабную песню и задирает юбку.
— Она вскружила тебе голову, — сказал Камье. Он достал из кармана блокнот, перелистал и прочел: — Понедельник 15, С. — Макариус, 9.15, С. — Руф[6], забрать зонт в «У Хелен».
— И что это доказывает? — сказал Мерсье.
— Мою добросовестность, — сказал Камье.
— Правда, — сказал Мерсье.
— Мы никогда не узнаем, — сказал Камье, — во сколько мы договорились сегодня встретиться, так что давай оставим этот предмет.
— Только одно несомненно во всей этой неразберихе, — сказал Мерсье, — что мы встретились без десяти десять, в тот же миг, что и стрелки на часах, или, точнее, мгновением позже.
— Тут есть за что быть благодарным, — сказал Камье.
— Дождь еще не начинался, — сказал Мерсье.
— Утреннее рвение еще не остыло, — сказал Камье.
— Не потеряй, это перечень наших планов, — сказал Мерсье.
В это мгновение внезапно явился из ниоткуда первый представитель длинного ряда вредоносных существ. Тошнотворного зеленого цвета форма, вся в героических эмблемах и значках, подходила ему как нельзя лучше. Вдохновленный примером великого Сарсфилда[7], он безуспешно рисковал своей жизнью, защищая территорию, которая и как таковая оставляла его равнодушным, и в качестве символа вряд ли могла особенно волновать. У него была трость, одновременно элегантная и массивная, и порой он на нее даже опирался. Его мучили приступы в боку, боль отдавала в ягодицы и вверх, вдоль прямой кишки, глубоко во внутренности, так далеко на север, что достигала пилорического клапана, кульминируя, как и следовало ожидать, мочеточно-мошеночными спазмами с квазинепрерывным стремлением к мочеиспусканию. Уволенный по инвалидности с жалкой пенсией, отчего кислые взгляды чуть не всех тех, мужчин и женщин, с кем его ежедневно сводили обязанности и остатки доброжелательности, он порой чувствовал, что с его стороны было бы мудрее во времена великих потрясений посвятить себя домашним стычкам, гэльскому языку[8], укреплению своей веры и сокровищам фольклора — вне всякого сравнения. И вреда здоровью было бы поменьше, и выгоды поопределеннее. Однако, насладившись сполна горечью таких мыслей, он гнал их прочь как недостойные. Его усы, некогда придававшие ему бравый вид, больше не справлялись со своей задачей. Время от времени, когда вспоминал, он начинал поминутно расправлять их, испуская струю вонючего дыхания, смешанного со слюной. Застыв на ступенях пагоды, с разинутым капюшоном, он метал туда-сюда взоры — то на Мерсье и Камье, то на собак. То на собак, то на Мерсье и Камье.
— Чейный там велосипед? — сказал он[9].
— Можно было бы обойтись и без этого, — сказал Камье.
— Убрать, — сказал смотритель.
— Это может оказаться забавным, — сказал Мерсье.
— Чейные это собаки? — сказал смотритель.
— Не вижу, как мы можем оставаться, — сказал Камье.
— Интересно, не тот ли это щелчок, который нам необходим, чтобы тронуться, наконец, в дорогу? — сказал Мерсье.
Смотритель взошел по ступеням укрытия и столбом стал в дверном проеме. Воздух тотчас потемнел и сделался еще более желтым.
— По-моему, он собирается нас атаковать, — сказал Камье.
— За тобой яйца, как обычно, — сказал Мерсье.
— Дорогой сержант, — сказал Камье, — что именно мы можем для вас сделать?
— Велосипед видите? — сказал смотритель.
— Я не вижу ничего, — сказал Камье. — Мерсье, ты видишь велосипед?
— Ваш? — сказал смотритель.
— Что-то, чего мы не видим, — сказал Камье, — существование чего утверждают только ваши слова, как мы можем говорить, наше это или чье-нибудь еще?
— С чего ему быть нашим? — сказал Мерсье. — Разве эти собаки наши? Мы видим их сегодня в первый раз. А вы еще будете настаивать, что велосипед, если предположить, что он существует, наш? Но собаки не наши.
— Накласть на собак, — сказал смотритель.
Но, словно сам себя опровергая, он накинулся на них и с проклятиями выгнал, палкой и пинками, из пагоды. Отступление их, все еще связанных узами пост-коитуса, было делом нелегким. Ибо равные усилия, которые они совершали, чтобы убежать, прилагались в противоположных направлениях и не могли не компенсировать друг друга. Должно быть, они очень страдали.
— Вот он и наклал на собак, — сказал Мерсье.
— Из укрытия-то он их выгнал, — сказал Камье, — нельзя отрицать, но отнюдь не из сада.
— Дождь скоро размоет их, — сказал Мерсье. — Не будь они такими зашоренными, они бы додумались до этого сами.
— Фактически он оказал им услугу, — сказал Камье.
— Давай будем к нему подобрее, — сказал Мерсье. — Он герой великой войны. Мы тут, на безопасной обочине истории, в полный рост себе онанировали и могли не бояться, что нам кто-нибудь помешает, а он ползал во фландрской грязи и гадил себе в портянки.
Чтобы не делать никаких выводов из этих пустых слов, Мерсье и Камье были ребята тертые.
— Хорошая мысль, — сказал Камье.
— Обрати внимание на звон медалей, — сказал Мерсье. — Представляешь, сколько за этим галлонов поноса?
— Смутно, — сказал Камье. — Насколько способен страдающий запором.
— Предположим, этот утверждаемый велосипед наш, — сказал Мерсье. — Что тут плохого?
— Довольно притворяться, — сказал Камье. — Он наш.
— Убирайте его отсюда, — сказал смотритель.
— Наконец занялся день, — сказал Камье, — после стольких лет ни то ни се, нерешительности и колебаний, когда мы должны идти, неведомо куда, чтобы, возможно, никогда уже не вернуться… живыми. Он занялся, а теперь мы просто ждем, чтобы еще и развиднелось немного, а там уж полным ходом вперед. Попробуйте понять.
— К тому же, — сказал Мерсье, — еще есть одна вещь, которую, пока не поздно, надо обдумать.
— Вещь обдумать? — сказал Камье.
— Именно так, — сказал Мерсье.
— Я думал, все вещи уже обдуманы, — сказал Камье, — и все в порядке.
— Не все, — сказал Мерсье.
— Будете убирать или нет? — сказал смотритель.