Они познакомились на острове, на офицерских танцах. Ее звали Элен Пейтон. Отец ее был выпускником Вест-Пойнта из старой виргинской семьи. «Не странное ли это совпадение, — спросила Элен Милтона во время танца, — что мой дед окончил тот же университет?» Тем вечером они шли вдоль дамбы под мелким дождем, и когда он, очень пьяный, пошатнувшись, нагнулся, чтобы поцеловать ее, огни города поплыли перед его глазами словно красные угольки в темноте. А Элен бросилась бежать — за нею сверкающим дрожащим хвостом слетали с плаща капли дождя.
Возможно, они были слишком молоды, чтобы понимать, что делают, однако через несколько месяцев были уже помолвлены. Оба были красивы, и оба безумно влюблены. Они любили сборища, любили танцевать; по субботам ездили верхом в Центральном парке. Однако она во многом была пуританкой и весьма строгой: «Нет, Милтон. Надо подождать». И насчет выпивки. Она любила хорошо проводить время, но при этом оставаться трезвой.
— Да ну же, маленькая мисс Недотепа, — с улыбкой говорил он ей, — не бойся, ну немножко…
— Ой, Милтон, прошу тебя: хватит. Нет. Нет. Я не буду! — И убегала, всхлипывая.
Ну разве вам не ясно? Перед вами армейский бесстыжий парень. Псих из психов, и все из-за непутевой жизни. Вечно где-то болтается. Но он любил ее. И долгое время не пил. Ради нее.
Они храбро, оптимистично смотрели в будущее. У его отца было немного денег, и он устроил Милтону практику в Порт-Варвике, «растущем городе», как говорили. Они могли неплохо проводить там время. Отец давал им не так много денег, но на какое-то время хватит. Они сумеют прожить.
Тогда она сказала ему: когда умрет ее мать, она унаследует сто тысяч долларов. «Ой, девочка!» — сказал он, как бы протестуя, но в то же время обрадовавшись, и они обвенчались с шумной, ненужной помпой, присущей военным свадьбам; церемония эта встревожила его тем, что он получил от нее удовольствие. Сладостное возбуждение, вызванное флагами и музыкой, породившее в нем легкий стыд, объяснялось не просто патриотизмом. Скорее это была гордость, вызванная достигнутым им рангом, а получил он его только благодаря своей невесте, и он это знал и тем не менее чувствовал, как в нем сильной струей зафонтанировала юношеская надменность; еще бы: две серебряных полосы на безупречно белой, отутюженной парадной форме. Ощущения окружающего притворства и фальши не перекрыло известие, сообщенное отцом, ставшим мягким пожилым мужчиной, который по-прежнему не чаял в нем души и чье терпение перестало быть достоинством, войдя в привычку, — он застенчиво стоял в уголке на приеме в офицерском клубе, кончики его некогда горделивых усов печально подрагивали, и он сказал Милтону извиняющимся, похоронным тоном, что Чарли Квинна убили за океаном, — худо это, очень худо.
Невысказанное возмущение тихо закипало в молодом человеке, хоть он и выразил легкое сожаление по поводу смерти юноши, чей след давно потерял, — он едва скрыл досаду от того, что ему сказали такое в день свадьбы, словно отец, в компенсацию за устройство сына, произнес эту новость в напоминание о том, что война — это не только шампанское, и цветы, и звонкий смех офицерских жен. И Милтон еле сдержался, чтобы не сказать отцу что-то очень горькое, издевательски оскорбительное, а пожилой мужчина стоял, моргая мокрыми глазами, как воплощение слабости, которую Милтон всю жизнь тихо презирал. Он хотел увести его и отправить назад, в Ричмонд. Он презирал отца. Старик слишком много ему отдал. «Сын мой (отец жил в то время в пансионе: их прежний дом был снесен — на его месте построили папиросную фабрику, и теперь стальные двери преграждали путь призракам мирной жизни и ушедшим в небытие традициям или даже воспоминаниям о дюжине старых кедров, пропускавших нежный, дрожащий свет на исчезнувшую землю), — сын мой, твоя мать была моей радостью и спасением, и я надеюсь и молюсь, хотя бы в память о той, что произвела тебя на свет, что ты, как сказал священник, будешь жить в радости со своей женой и любить ее все дни суетной жизни, отпущенные тебе под солнцем, ибо это твой удел. Сын мой…»
Внезапно волна жалости и грусти захлестнула Лофтиса, он неуклюже попытался найти какие-нибудь слова для отца, но лицо Элен возникло поблизости, поднятое к нему, предлагающее поцелуй, и она потащила его за собой — знакомить с кем-то из его гостей. Отец как неприкаянный стоял в уголке, стараясь поддержать разговор со скучающим молодым лейтенантом, а Лофтис, новоиспеченный капитан, слушал монотонную свадебную болтовню генеральской жены, кивал, улыбался и думал о бледном мальчике с родимым пятном, похожим на цветок, о братике, которого у него так и не было, и о своем отце, которого он так и не узнал.
— Право же, Элен, — болтала генеральская жена, — я считаю, вы выбрали цвет армии. Такой персик! — И смех ее потряс воздух, словно на мелкие кусочки разбилось стекло.
«Думай о том, что происходит сейчас». С какого-то парохода прозвучал громкий свисток. Лофтис поднял взгляд на облако пыли, прочерченное кривыми рамками света.
— Элен, — рассеянно произнес он, нащупывая ее руку, но это оказалась одетая в перчатку рука Долли, успокоительно лежавшая на его плече. Он повернулся, чтобы встретиться с ней взглядом, и услышал далекий грохот поезда. — Нет! — воскликнул он. — Я этого не вынесу!
* * *
Катафалк стоял возле грузового лифта для угля. Всякий раз, как мистер Каспер нагибался к Барклею, чтобы объяснить ему, что случилось с мотором, лежавший на путях над ними перевернувшийся полувагон заглушал его слова бешеным грохотом угля, сваливаемого к морю и гулко поглощаемого трюмом.
— Лайл, — начал мистер Каспер, — может, ремень вентилятора перестал вращаться. ЛАЙЛ! — Нервничая, он стряхнул пыль с манжет, пытаясь сохранять спокойствие.
Барклей залез в кабину катафалка, включил на несколько минут мотор, но вентилятор не работал. Он выключил мотор.
— Ты проверил…
— Ри-и-пп. ПОЛОМКА!
Горькое отчаяние парализовало Каспера. Накануне ночью он почти не спал, и сейчас все вокруг него колыхалось и казалось абстрактным.
— Послушай, Барклей, — сказал он, — ты уверен, что проверил воду?
— Да, сэр, — сказал тот с мрачным видом.
— Я ведь тебя в прошлый раз предупреждал. Катафалк, сынок, стоит почти шесть тысяч долларов — мы же не хотим, чтобы с ним что-то случилось, верно?
Барклей поднял взгляд от мотора. Мистер Каспер мягко улыбался, глядя вниз. Он тепло и по-отечески относился к Барклею — у него ведь не было своих детей. Лайл был туповат, но славный малый, — славный малый, но… что ж, туповатый. Сегодня не тот день…
— А ну, — сказал мистер Каспер, снимая перчатки, — дай-ка я погляжу.
Руки у него были в веснушках, крупных красных веснушках, из которых торчали пучочки морковного цвета волос. Он нагнулся над мотором, и кислый дым ударил ему в ноздри. Он стал шарить вслепую, на ощупь, пачкая сажей манжеты. Затем он потерял равновесие и, пытаясь схватиться за что-то, ударился рукой о радиатор. Руку пронзила невыносимая боль.
— Проклятие, Барклей! — Мистер Каспер резко отпрянул и схватился за руку. Он испуганно смотрел, как вздувается кожа — обожженное место было совсем маленьким, но болело, и боль вызывала в нем безрассудную злость. — Наладь его, мальчик, — мягко произнес он, так мягко, как только мог. — Наладь этот радиатор. Если не сумеешь, то это сделаю я.
Два негра — рабочие с доков — прошли мимо, погромыхивая связывавшей их цепью. Мистер Каспер услышал, как один из них насмешливо фыркнул.
— Сдох твой фургон, приятель!
И мистеру Касперу стало стыдно, что он разозлился.
Он стоял и лизал обожженное место, а тем временем Барклей нашел поломку: резиновая кишка, ведущая от радиатора, вывалилась из своего гнезда, и большая часть воды вытекла. Он снова вложил кишку. Барклей отправился на станцию «Эссо» за ведром воды, а мистер Каспер закрыл капот и выпрямился, стирая с рук масло. Он надел перчатки и услышал вдали слабый свист. Взглянул на часы: одиннадцать двадцать. Значит, это поезд. Над ним по наклонной плоскости элеватора покатилась угольная вагонетка, скрежеща колесами о рельсы. Этот звук невыносимой болью отозвался на нервах мистера Каспера. Проклятие! Он быстро направился к группе людей, стоявших в доке, и столкнулся с носильщиком, выскочившим с чемоданами из багажного помещения:
— Извините, сэр!
Мистер Каспер поднялся по ступеням в док, и в лицо ему ударил чистый, прохладный соленый воздух. Глубоко вдохнув, он услышал донесшийся издали хриплый голос Лофтиса, визгливый и взволнованный, вибрировавший на грани печальной истерии, которую он так хорошо знал.
— Я этого не вынесу! — сказал Лофтис столь громко, что проходивший мимо мистера Каспера толстяк остановился и, обернувшись, вопрошающе посмотрел на него. — Я же говорю вам… мне этого не вынести… я не пойду!
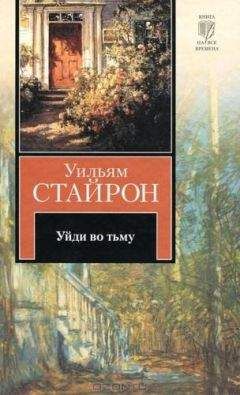



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
