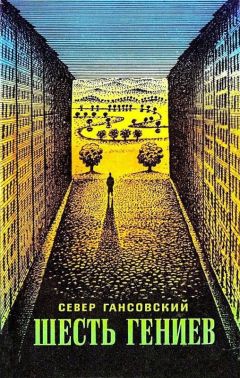— Может, со временем это пройдет, — сказала я Дюле, — но пока что я не буду ездить на велосипеде.
Дюла тогда систематизировал образцы почв и уже начал составлять карту земель хозяйства. Мы собственноручно отгородили часть обширного нижнего помещения под нашу домашнюю лабораторию. Два ряда полок были уже забиты образцами почв, а ведь оставались еще три поля, которые он не обследовал. (Помнится, в служебной командировке, когда работа была сдельной, с такой же площади собрали вдесятеро меньше образцов.)
— Что случилось?
Мое лицо в его руках, и, хотя у нас и речи не могло быть о том, чтобы кто-то командовал, а кто-то подчинялся, я чувствовала себя маленьким щенком, даже глаза закрыла.
— Мне кажется, я скоро и вверх начну смотреть, а вдруг машина сверху меня сшибет, ее фары уже издали следят за мной, словно глаза огромного жука.
— Ну и, конечно, у нее крылья летучей мыши! — смеясь сказал Дюла. Мы всегда понимали друг друга, и в этой фразе был особый намек. Когда мы впервые осматривали нашу мельницу-замок, в самой верхней комнате, можно сказать, в тереме меня страшно испугал шумный взлет потревоженных летучих мышей. Однако мне не понравилось, что этим намеком Дюла хотел свести все к шутке.
— Но ведь то и это не одно и то же, — заметила я.
Тогда он нахмурился и сказал:
— Надо было заявить куда следует!
— А если его поймают и засудят? — сказала я. — Этим уже ничего не изменишь, радость от езды на велосипеде для меня все равно пропала.
У нас не было иного выхода, необходимо было обзаводиться собственным хозяйством. После нескольких дней поисков Дюла напал на подходящее место на той стороне реки, шагах в ста от узкого деревянного моста через шлюз. Там на самом берегу стоял небольшой ничейный холм, густо заросший тополями и ивняком.
Мы обошли его кругом и поглядели на нашу мельницу, казалось, до нее было рукой подать.
— Ты согласна?
— Ну, конечно, — ответила я.
Мы пожали друг другу руки, словно два солидных дельца, и обежали холм кругом — всего-то несколько шагов — дело казалось решенным. Издали, через луг, кутаясь в осенний туман, за нами угрюмо следила деревня. «Ты жалеешь дать нам малость зелени, — думали мы. — Ну и оставь ее себе. Держись за свой чахлый стручковый перец, блеклую свеклу и дряблую фасоль; будь счастлива со своими приспособленными под чуланы ваннами, со своими шаткими нужниками у навозных куч, с отупляющим дрянным вином, с непременными пеларгониями в синих горшках, со своим трезвым крестьянским умом».
Однако я тогда не понимала, за что взялась. Мне казалось, что на работу уйдет не более нескольких недель. Несколько недель! На нее ушла осень, зима, весна.
Каждый свободный час мы проводили там, между холмом и мельницей. Луг уже скрылся под водой, но мы брели по берегу в резиновых сапогах, и когда ударили морозы и выпал снег, мы и тогда не прекратили работу, наоборот, работать стало легче. Мы размели на льду замерзшего луга тропинку и волочили наши корзины до моста, как санки. Через мост до мельничного двора переносили их уже на руках, опрокидывали и, пошатываясь, шли обратно через мост к холму. Чтобы использовать в полной мере возможности, которые давал нам лед, мы работали и в тихие, ясные лунные ночи, до тех пор, пока вконец не выбивались из сил.
Тихая, ясная лунная ночь — это звучит необычайно романтично, несется домой после веселой гулянки санная упряжка, звеня бубенцами, — уж не тройка ли? — лошади запрокинули головы, живые, послушные, огневые, стремительные, как паровозы, вырывающийся из их ноздрей пар отлетает назад, меховые полсти, горячее вино, веселые крики, заснеженная равнина тянется до самого неба… Впрочем, и паровозы тоже уже вышли из моды. Они обречены. Пока что они этого не знают, пока что еще фыркают, пыхтят, шипят, суетятся на станциях и громко свистят, когда вырываются на простор, но новые уже не приходят на смену замасленным, вконец изношенным старичкам. — У них недостаточный коэффициент полезного действия.
Сейчас меня занимает одно-единственное: страшно мерзнут руки и ноги, так было вчера, так будет и завтра. Временами я прямо-таки ожесточалась. Зачем все это? Даже наша работа, наша первоначальная цель теряла свой смысл. Обменяться рукопожатием легко, но ведь три сезона ушло только на подготовку!
— Ты, наверно, и меня теперь ненавидишь? — сказал как-то Дюла совершенно неожиданно.
Я молчала, ошеломленная.
— И, наверно, уже обо всем жалеешь? Да, бывают минуты…
— Нет! Нет! Замолчи! — крикнула я, вцепилась в его холодную фуфайку, прильнула к нему. И скоро, чуть ли не сразу, почувствовала себя так, как тогда в больнице, когда поняла: надо дышать, ведь есть для чего — и тут все стало на свои места.
Мы снова ухватились за безжалостные ручки корзины и взошли на мост.
В итоге вот чего мы добились:
Первое: мы перекопали мельничный двор. (На деле это означало работу киркой и лопатой, а на одном участке площадью с большую комнату, мы наткнулись на такие валуны, что даже кирка оказалась бесполезной, и для того, чтобы удалить их, Дюла работал долотом, раскалывал их на части один за другим, и только на одно это ушло две недели тяжелого труда. Камни, гальку, осколки кирпича, битое стекло, подковные гвозди и еще бог знает какую дрянь: насквозь проржавевшую печную трубу, прохудившуюся посуду, ремень от бича, втулку колеса, скелет кошки — все это подбирала и уносила я.)
Второе: мы вырубили и выкорчевали на холме все деревья и заросли кустарника, с корнем вырвали сорняки.
Третье: В средней величины круглых корзинах с ручками мы перетащили весь холм на мельничный двор и уложили почву ровным слоем. (По мосту Дюла шел впереди, а я сзади, обеими руками вцепившись в ручку корзины.)
В итоге — не ахти какое великое дело.
Мы покрыли мельничный двор слоем почвы в десять-пятнадцать сантиметров толщиной.
Первые несколько месяцев я считала и записывала число «наших корзин», но где-то после двух с половиною тысяч бросила, у меня тогда появилось ощущение, что если вот сейчас я достану шариковую ручку и сниму колпачок, то силы оставят меня и я свалюсь.
Позже я жалела об этом.
— Вот видишь, теперь у меня нет никакой статистики!
— Вижу, — отвечал Дюла, — зато есть огород.
Один венгерский академик, если не ошибаюсь, Золтан Сабо, открыл так называемое слабое взаимодействие между молекулами — взаимодействие, которое невозможно математически описать.
Взаимодействие имен — по крайней мере вначале — схожее с этим явление. У меня была подруга, которая коллекционировала Петеров, или, что почти одно и то же, не могла устоять перед Петерами. В гимназии в наших мечтах мы принимали в расчет не только фигуру, цвет волос, великолепные зубы и тому подобное, но зачастую и имя: оно могло быть положительным или отрицательным. К примеру, Миклош и Габор — вот это да! Миклоши непринужденные, с широким шагом, любезно высокомерные, у них есть чувство юмора, волосы густые и пружинистые, как у медведя, на пляже на них поглядывают все девчонки. Габор же всегда элегантен, даже в костюме из магазина готового платья, хорошо обо всем осведомлен и имеет зоркий глаз; когда в театре, на сцене появляется загримированный Кобор вместо объявленного на афише Федора, то ты, по всей вероятности, так бы и не заметила подмены до самого конца пьесы, если бы Габор тут же не наклонился и не сказал: «А ведь вместо знаменитого Фодора играет этот слабак Кобор!» Ты удивляешься, и он добавляет: «Да, они конечно похожи, и голосом тоже, но ты только посмотри на его рот, как он его разевает!» Все вокруг с признательностью глядят на вас — ты тоже нежишься в лучах чужой славы, — и вот уже побежала по рядам весть, вот она обезьяной взлетела на балкон, мышью прошмыгнула в ложи, и через несколько минут всей публике известно: ну конечно, это не знаменитый Фодор, вон как он разевает рот, словно рыба, выброшенная на берег.
А чего можно ждать от Якаба, Эдена или Келемена?
Якабы по-учительски сдержанны, прежде чем вымолвить слово, прочищают горло, как будто собираются сообщить нечто сенсационное или чрезвычайно важное, и непременно начинают фразу с «я думаю» или «по моему мнению». (Вот он прочищает горло, и: — Я думаю, не мешает испить стакан воды. — Он думает!!! Не мешает!! Испить!.. Сдохнуть можно.) И кроме того, у них оттопыренные уши. Эдены без конца гогочут ни к селу, ни к городу, и каждую минуту за них приходится краснеть; побагровевшая шея выпирает у них из воротника, ноги короткие и кривые, о чем бы такой Эден ни говорил, он непременно расхаживает гоголем взад и вперед. Ну а Келемен? Этот всегда носит при себе зеркальце и то и дело украдкой расчесывает свои жидкие волосы, а если кладет ногу на ногу, — ни дать ни взять буква х; как правило, он угрюмо молчит, чтобы скрыть свою глупость.
Ну, а какие у них ласкательные имена? Яки? Эди? Кели? — О господи!

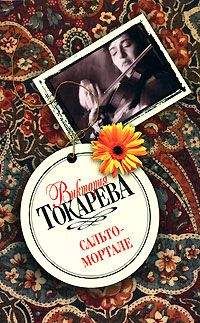
![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)