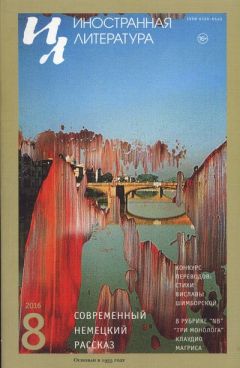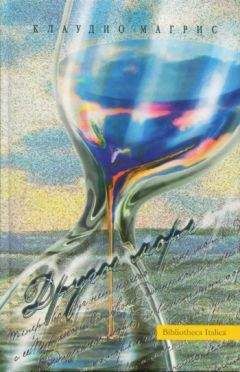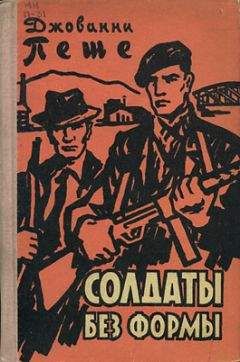То же самое происходит, когда смотришь в зимнее небо, еще прозрачное, от света на западе щемит сердце, деревья в контражуре черные-черные, ты смотришь в него, застывшее в своей неподвижности и однообразии, свет его неугасим, ибо рожден самим воздухом — и вдруг, внезапно, в один миг, становится темно. Что-то изменилось в небе, в деревьях, в их ветвях; они все еще на месте, но уже больше не те же самые.
Вот и голос, голос женщины, как это неподвижное, прозрачное небо, ему никогда не низвергнуться на вас, не достичь ваших глубин.
Номер 32–64–29 я набираю трижды каждый день, за исключением воскресенья и праздников. Утром, как только она уходит из дома в половине девятого, в одиннадцать и ближе к вечеру. И всякий раз я чувствую, что тону в глубинах этого голоса, как в реке, погружаясь в ее дно, как в перину, где слова растворяются в шелесте ночной воды и нежной тьме ювенального моря.
На миг, скорее на промельк мига, мне кажется, что я смутно припоминаю очень-очень далекие времена, когда я был рыбой, никогда не видевшей суши, и должны были пройти тысячи тысячелетий, прежде чем на берегах появятся рыбаки, или даже когда я был еще не рыбой, а предтечей рыбы, и плавал в мягчайшей темной морской воде, и слышал голос женщины, которая и была тем самым морем, в котором я плавал, и голос этот был самой водой и был всем. Твердого дна я, погружаясь все глубже и глубже, так никогда и не достигал.
В голосе номера 32–64–29 было много оттенков: искренность, бесстыдство, которое сначала возбуждает и манит, а потом резко отталкивает, а то и заканчивается пощечиной, как, впрочем, нередко случается у женщин. Но внезапно замечаешь, что в нем присутствует и нежность, и великодушие, и милосердие, которое всегда есть в настоящей женщине по отношению к мужчине, ведь для нее он так и остается ребенком. И все это только там, в телефонной трубке. Когда внимаешь этим вокальным месседжам, обращенным ко всем и каждому, всеобщим и всеобъемлющим, выходящим за пределы частных проблем, становится понятно, что такое настоящая женщина — Мария с ребенком у груди. А все, кого мы видим вокруг, — это куклы, кокетливые или плаксивые, расчетливые или безрассудные, при виде которых руки опускаются.
Вот и 72–28–16, как ни позвони — другая. Развязная, кроткая, вспыльчивая, снисходительная. Я знаю ее лучше, чем она себя, потому что она себя не слышит по телефону. Она записала послание, но она не знает, что намешено в ее голосе: грусть, тоска, небрежение, суетность. К тому же у нее вроде мании — неизвестно почему часто менять текст сообщения. По правде говоря, внешние изменения меня мало волнуют, они незначительны по сравнению с тем, что проявляется в словах сообщения неосознанно, импульсивно, скрытно, с этими паузами, которые неожиданно делаются все глубже, как темный провал почвы, как бездна, в которую ты, оступившись, падаешь, вниз-вниз-вниз, на самое дно мрака, в колодец горла, в тьму каверны… с этой дрожью, что вибрирует время от времени в слове, в молчании, и все вокруг замирает, и мир, огромный, неподвижный, зависает в пустоте…
Как бы то ни было, мой долг — уделять частичку внимания и этим банальным изменениям формы. Вчера, например, она говорила: «Меня нет дома, оставьте ваше сообщение, а если речь о чем-то срочном, наберите 35–27–86». Слова впроброс, словно она не скрывает своего нежелания непосредственно общаться. Сегодня утром, наоборот, она была нетороплива, произносила слова почти по слогам, надутыми, как для поцелуя, губами: «Это номер 72–28–16. Перезвоните мне позже или назовите свое имя».
Я выслушал три раза подряд это деспотичное и бесстыдное приглашение. Иногда музыка звучала перед ним, иногда после, а иногда ее не было вообще.
Зачем постоянно менять текст? Для чего все эти усилия: стирать старый, придумывать новый, записывать его, и опять все по кругу? Может, она каждый раз обращается к различным собеседникам, неизвестным ей, но разным, а это требует постоянного изменения тона? Но как она позволяет себе заставлять меня так страдать! А вдруг ей и правда позвонит какой-нибудь маньяк? Наша история длится уже несколько лет, и первый попавшийся не имеет права вторгаться в наши отношения, это несправедливо, я не позволю, чтобы ее у меня увели.
Любой то и дело норовит отнять у меня все… нож мясника отрезает кусок за куском от мясной туши, и матери, стоя в очереди, чтобы купить свою порцию для своего ребенка, дышат запахом крови. Как можно думать о рождественском обеде среди этих висящих оголенных туш? Со мной то же самое, когда я звоню по телефону, мне отвечают все реже и реже, и каждый раз как будто отрезают кусок меня, и он исчезает в вакууме. Да пусть они позволяют приставать к ним на улице, если им нравится, меня эта пошлость совершенно не трогает, но уж не претендуйте на то, чтобы я звонил вам, когда вас нет дома! Я научился мстить им, платя той же монетой. Недостатка в женщинах у меня нет, и, если какая-то меня предает, я моментально звоню другой.
Я даже составил таблицу с подробным расписанием дня их всех. Так, по номеру 48–27–81 можно звонить только во второй половине дня, потому что она начинает работать с 14:00. С номером 25–36–12 дело сложнее, смены у нее чередуются: понедельник, вторник, среда — утро, в остальные дни — вечер, в субботу звонить рискованно, хотя она обычно уходит за покупками. Однажды она оказалась дома, и я моментально бросил трубку.
Поделом мне, нельзя быть таким безоглядно самоуверенным, беда, когда механически становишься рабом своих привычек и не принимаешь в расчет то, что именно в этот момент твое желание позвонить ей может совпасть с ее желанием, чтобы ей позвонили. Любить — значит принимать человека таким, какой он есть, с его желаниями, ничего не воспринимать как должное, деликатно приспосабливаться к настроению того, кого любишь.
А вот 39–15–29 меня просто достала безалаберная девица без фиксированного графика дня, никогда не знаешь, что тебя ждет. Я устал следить за ее графиком и вычеркнул ее из списка. Без нее дел хватает. Если с 27–65–04, 57–24–41, 32–64–29 и 72–28–16 проблем нет, поскольку они живут одни, то в некоторых других случаях я должен еще иметь в виду расписания их мужей или бойфрендов. А с 69–57–23 еще и с распорядком жизни ее матери, глухой старухи, которая каждый раз орет в трубку. И потом, это несправедливо — то, что я все время должен подстраиваться под них, я ведь тоже имею право делать, что хочу, звонить, когда приспичит, разве можно приказывать желанию!
Иногда на меня накатывает набрать 48–27–81 посреди ночи, а я терпеть не могу звонить ночью. Ужин, лежащий в моем желудке, подступает к горлу, рот и сердце наполняются кислотой, не лучшее состояние, чтобы приволакиваться за кем-то. Я предпочел бы сидеть у окна, часами наблюдая за бельем, которое вывесили сушиться, и оно бьется на ветру, в то время как стены двора медленно изменяют свой цвет.
Под стать ей и 27–65–04, та еще воображала. Постоянно навязывает время, в какое я вынужден ей звонить, всегда неудобное для меня, но как можно не подчиниться ей, с тех пор как однажды, услышав это ее «чао», я пропал.
Так что я звоню ей, даже если мне этого не хочется. А иногда, напротив, я ощущаю безудержное желание позвонить ей, позвонить им всем. Такое случается со мной по утрам, после бессонной ночи. Бессонница — это пытка, к утру оконные стекла становятся белыми, как пена, растекающаяся по поверхности черной воды, если бы я только мог позвонить им всем в эту минуту, но они, теплые и расслабленные, еще нежатся в постели под затхлыми одеялами, и автоответчики еще не включены, и я смогу услышать лишь опухшие от сна голоса, свиное похрюкивание, а это испортило бы мне настроение на весь день. И мне остается крутиться в кровати и ждать, когда для них пробьет час идти на работу, в школу или за покупками, и надеяться, что к этому времени жажда звонить не иссякнет. Сначала я весь напряжен и возбужден, потом поднимаю трубку просто так, по привычке, я верен своим привычкам, и, если никто из них не отвечает, мне даже лучше.
Еще и потому, что позже, в офисе, я сам должен отвечать на звонки, переводить их на другие номера, давать информацию, принимать сообщения, левая рука поднимает одну трубку, в то время как правой я держу другую, в которую уже говорю, потом звонит третий телефон, я прижимаю эту трубку плечом к уху, тут же звонят новые, это ужасно, голоса грохочут со всех сторон, каждый думает, что он единственный, и требует внимания только к нему одному, голоса наглые, алчные, пронзительные, вальяжные… и у меня внутри что-то взрывается…
Даже если бы все мои голоса, те самые, подлинные, позвонили мне одновременно, это была бы катастрофа, как если бы, лежа в гареме с обвившимися вокруг тебя красавицами, ты еще не успел начать делать то, что должен, как уже вынужден прекратить, потому что одномоментно затрезвонили все телефоны. Хорошо чувствовать себя в гареме может только евнух.
И ночью, когда я кручусь в постели, в ушах все еще эти звонки, копья, пронзающие мозг, сверло дантиста, я встаю и проглатываю две-три таблетки, но это не помогает, звон не унимается.