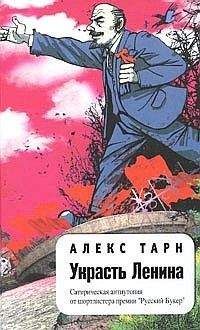Верный Вовочка неизменно дрался вместе с ним; сам он тоже именовал несчастного Вадьку, как придется: и Штюбингом, и Штюрлихом-Натюрлихом, и даже Крузенштерном — Штирлиц возник уже позже — но признавал такое право Вовочка только за собой, ближайшим другом. Вообще, он третировал Вадьку постоянно, хотя всегда тонко чувствовал, где следует остановиться, чтобы не довести до непоправимой обиды. Вадька был силен и добродушен; Вовочка хитер и изобретателен. Они всегда сидели за одной партой.
В кабинете биологии на подоконниках стояли кактусы. Время от времени Вовочка осторожно протягивал руку, снимал с подоконника горшок и, улучив момент, незаметно подсовывал кактус под Вадиково бедро. От боли и неожиданности Вадька подскакивал на стуле.
— Ай!
— Ш-ш-штиглиц! — шипела разгневанная биологичка. — Ну что ты никак не можешь усидеть на месте? Почему твой сосед может, а ты — нет?
Класс покатывался со смеху, Вовочка невинно хлопал глазами — в такие моменты они у него отличались особенной голубизной, а бедный Вадик скрежетал зубами в бессильном гневе. Впрочем, гнев рассеивался еще до конца урока: Вадька был необыкновенно отходчив. Тем не менее, Вовочка на всякий случай прятался от него в течение всей перемены, так что, в итоге, пораженный непривычной разлукой с коварным другом, Вадька начинал испытывать абсолютно неуместные в данной ситуации угрызения совести. В конце концов, неразлучная парочка воссоединялась за партой, и Вовочка немедленно давал старт новому витку «кактусного прикола».
В первые дни Вадик еще помнил о грозящей опасности и постоянно косился влево, на друга и на подоконник.
— Штиглиц! Не отвлекайся! — возмущенно кричала биологичка. — Ну почему ты все время смотришь в окно? Ворон считаешь? Повтори то, что я объясняла перед этим… Ах, не можешь? Почему твой сосед может, а ты — нет? Вознесенский, повтори!
Вовочка с готовностью вскакивал и бодро рапортовал о тычинках, пестиках и условных рефлексах. Про условные рефлексы он знал особенно хорошо, потому что изучал тему непосредственно на несчастном Вадике. Происходило это следующим образом. Убедившись, что Вадик пристально следит за подоконником, Вовочка слегка приподнимал левую руку, как будто собираясь протянуть ее по направлению к кактусу. Естественно, Вадик удваивал внимание и напрягался. И тут Вовочка тихонько тыкал его в многострадальное бедро — нет, не кактусом, а всего лишь пальцем оставшейся без присмотра правой руки. Всего лишь пальцем… но бедный Вадик уже пребывал к этому моменту в таком напряжении, что даже легкое касание Вовочкиного пальца оказывало на него действие, сопоставимое с уколом целой рощи кактусов. Несчастный подпрыгивал на стуле, тщетно пытаясь удержать рвущийся из груди вопль.
— Ай!
— Штиглиц! Вон из класса!
К счастью, время притупляет все, даже условные рефлексы. Мало-помалу Вадик переставал реагировать на палец и успокаивался. Увы, при этом он невольно ослаблял и слежку за подоконником. В такие дни Вовочка бывал к нему особенно предупредителен и даже переставал называть Штюбингом. И хотя необычно ласковое отношение друга слегка настораживало Вадика, это был самый последний всплеск бдительности. Неминуемо наступал день, когда Вадик беспечно склонялся над конспектом или отвлекался на нежный профиль сидевшей спереди-справа Оленьки Ивановой, или просто принимался чесать правой рукой левое ухо… тут-то, откуда ни возьмись, и вырастал возле его бедра очередной кактус.
— Ай!
— Штиглиц! Сил моих больше нету! Завтра! В школу! С родителями!
После обеда стюардессы собрали подносы, и Веня поднялся размяться. В середине салона его окликнул чернобровый инвалид Дуди Регев.
— Что, доктор, ноги затекли? — он весело подмигнул. — Нам бы твои проблемы…
Веня понимающе улыбнулся: у большинства дудиных партнеров по команде ноги либо отсутствовали вовсе, либо были лишены чувствительности.
— Важный турнир, Дуди? Есть шанс на победу?
Дуди кивнул.
— А как же! Хотя у русских тоже сильные команды. Ну, и сербы, конечно. Много кадров, есть из кого выбирать. Примерно, как у нас и по тем же причинам. Противопехотные мины, доктор, очень способствуют развитию нашего вида спорта.
В его интонации не было горечи — простая констатация. Инвалид выглядел вполне довольным жизнью.
— Я вот что хотел у тебя спросить, доктор. Был у меня тогда шанс с ногой остаться? Если бы, допустим, ребята меня к тебе чуть пораньше приволокли или если бы вертолета так долго не ждали, или еще что…
— Не знаю, — ответил Веня. — Да я, честно говоря, на ногу-то особо и не смотрел. У тебя ведь вдобавок внутреннее кровотечение было, от осколков… пока прооперировал, тут и вертушка прилетела. А ногу тебе уже в госпитале оттяпали, без меня.
— Ну и черт с ней, — легко сказал Дуди. — Ты не поверишь, но я даже рад, что так вышло. Мы с корешем тогда метили дембельнуться и в Конго двигать, инструкторами. Солдаты удачи, как говорится. Он поехал. Сейчас сидит за контрабанду камешков. Не здесь сидит — там. А я — вот видишь… — он победно развел руками. — Работа хорошая, семья хорошая, спорт вот тоже хороший, по заграницам разъезжаю. Тренировки опять же хорошие, спокойные, никто тебя нагрузками не душит. Все тип-топ, короче говоря. А уцелей тогда нога — сидеть бы мне теперь с тем корешем в одной яме. Вот так-то.
— Давай я тебе вторую отрежу, — предложил Веня. — Может, еще счастливее станешь.
— Э, нет, — засмеялся инвалид. — Лучшее враг хорошего. А ты чего в этот летишь… как его… Сан… тьфу!.. и не выговоришь…
— Санкт-Петербург, — помог Веня. — Отдохнуть лечу. На пару неделек. Посмотреть что и как.
Дуди присвистнул.
— На пару неделек? Да что там делать так долго? Это ж край света! Сибирь! И дорого все, я узнавал. Слетал бы лучше в Анталию: отели — во!.. жратва — во!.. цены…
— Я там родился, Дуди, — перебил его Веня, не дожидаясь характеристики антальских цен, но догадываясь, что и они тоже «во!» — И прожил двадцать лет. И еще тридцать лет не был. Это, как вернуться в другую жизнь. А Сибирь вообще в другом месте, географ.
— Ага… теперь понятно… — Дуди покачал головой. — Ты же «русский». Я как-то не связал. Если так, то понятно.
— Что тебе понятно? — с досадой отозвался Веня. — Ничего тебе не понятно. Ты, где родился, там и прожил, откуда тебе понять? Может, и понял бы, если бы в Конго попал, если бы нога твоя тебя туда пустила. Хотя, нога тут ни при чем, как и Сибирь.
— Еще как при чем! — ухмыльнулся Дуди. — Сказать, почему? У вас, у «русских», словно не две ноги, а три. Никогда не поймешь, где вы стоите. Двумя вы, вроде бы, в Стране живете, как все, а третья у вас вечно там, в Сибири. Или в этом, как его… Сан…
— Сан-Франциско, — подсказал Веня. — А когда я тебя, несостоявшегося солдата удачи, с того света вытаскивал, тогда я где стоял? Тоже в Сибири?
Дуди расхохотался.
— Нет, доктор, дорогой. Тогда ты в Ливане стоял. Всеми тремя своими ногами. Да ты уж не обиделся ли? Брось, на инвалидов не обижаются. Видишь, у меня даже все шутки про ногу, и примеры тоже. У кого чего болит, тот про то и говорит. Вот и ляпнул, не подумавши. Не бери в голову, а? За мной тебе все равно по гроб жизни должок. Ну?..
Он протянул руку ладонью вверх. Веня пришлепнул ее своей, как печатью, и пошел назад. Недолгая беседа с Дуди слегка подпортила ему настроение. Нет, школьные воспоминания, занимавшие его в продолжение последних часов полета, не потускнели, не съежились. В голове по-прежнему медленно кружился хоровод ярких картинок тридцатипяти-сорокалетней давности: сырой морок немецкого кладбища, коленопреклоненный ангел на могиле с вадькиной фамилией, первая бутылка портвейна, распитая на четверых там же, под сенью обломанных ангельских крыл, кактус на подоконнике кабинета биологии, невинный взгляд голубых Вовочкиных глаз, молчаливый задумчивый Витька… и все же, все же… в самую точку попал жизнерадостный инвалид, в самую десяточку, вырезал ему чистую, кровоточащую правду-матку, расправил на досочке, отбил, посолил, пожарил с лучком: кушай на здоровье, доктор, поправляйся.
Одна нога здесь, другая там… нет, это о другом. Дом, разделившийся в самом себе, не устоит… нет, и это о другом: разве он, Веня, стоит? Он летит, и это очевидно: вон, проплывают внизу реки и долины… кстати, чьи они теперь? Украинские? Российские? Черт его знает… а ты? Чей ты теперь, Веня Котлер? — Котлеров, со второго этажа серого закопченного дома на Железноводской, первая парадная от угла, запах кошек, обгоревшие почтовые ящики, изрезанная ножиками дверь лифта, голая лампочка на витом проводе, похабные надписи на стенах? Или чей-то другой, принадлежащий университету, больнице, армии, семье: завотделением, майор-военврач в запасе, отставной козы супермедик, отец троих, муж одной, слуга дома, автомобиля, дивана, телевизора, кофеварки, соко-жизне-выжималки? Чей?