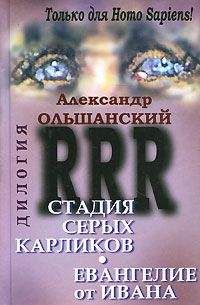Он заметил, что каждый последующий шаг казался ему не таким тяжким, как предыдущий, однако с каждым шагом он все больше уставал. Облегчение уравновешивалось усталостью, и все равно у него ни разу не возникло желание остановиться, присесть, отдохнуть. Его влекло ввысь, более того, ему хотелось подниматься, потому что его душа после каждого преодоленного шага наполнялась предчувствием ликования и радости. Она просветлялась, избавляясь от житейских тревог, прогорклого осадка страданий и бед, неудач, неприятностей, скопившихся за нелегкую и не такую уж и короткую жизнь.
Как-то в самом начале этого пути Иван, изнемогая от бессилия, хотел, было, исхитрившись, наклониться, чтобы обеими руками поднять ногу и поставить ее на очередную ступеньку. Но у него рук, как таковых, не оказалось, как и ног, как и тела. Ничего не было, кроме сознания или той неуловимой субстанции, которую принято называть душой. Его так это поразило, что он или, точнее, она съерничала сама над собой: «Полетела душа в рай, а ноги — в милицию?» А потом пришло и понимание того, что происходящее с ним имеет не физическую, а сугубо духовную природу.
Сознание здесь явно пребывало в отдельности от бытия: хотелось Солнца, а его не было, хотелось, чтобы ступеньки были не такими высокими, а они не уменьшались. Однако в этой нарочитой отстраненности чувствовался какой-то секрет субъективно-идеалистического свойства. Душа, должно быть, не самоцельно очищалась, перепрограммировалась или перезагружалась заново.
И вот настал момент, когда начала приоткрываться тайна всего происходящего с ним. Впереди на лестнице что-то забелело. Иван подумал, что это опять здешнее облачко. Но, приближаясь к нему, он стал различать очертания фигуры старца в белых одеждах. Седые волосы, белая борода, на плечах какая-то старинная льняная хламида, сандалии на босую ногу. Иван видел сотни раз точь-в-точь так нарисованные изображения Саваофа. И глаза были голубые и лучистые, но вот нимба вокруг головы никакого он, как ни старался, не рассмотрел. Иван с великими трудами поднимался, а тот стоял и поджидал — разве трудно было ему спуститься на несколько ступенек вниз? Только об этом он с раздражением подумал, как ступеньки, разделяющие их, стали намного выше. «Здесь права не покачаешь», — подумалось Ивану и тут же показалось, что эту его вынужденно смиренную мысль Саваоф отметил еле-еле уловимым прищуром цепких глаз.
Когда между ними оставалось две ступеньки, Саваоф поднял руку и, осенив Ивана Где-то крестом, сказал:
— Здравствуй, душа христианская. Куда путь держишь?
Иван Где-то поздоровался и спросил в свою очередь:
— А разве у меня есть выбор?
— Есть. Подумай.
— Думать вредно. Для здоровья и особенно для зарплаты. Или здесь не так? — Ивана что-то подзуживало дерзить Саваофу.
— Это у вас, на Земле, дуракам закон не писан, а умным думать вредно. Вот я и размышляю: куда тебя определить? В рай, пожалуй, рановато, перечишь начальству, но и ада ты еще не заслужил, поскольку безвинно познал его. Вот и сказал бы: в рай иду, ну и пошел бы себе…
Иван уже пожалел, что стал ерепениться, но и сдаваться сразу со словами: «Прости меня, Господи», как бы давая взятку своим смирением, себе не позволил — взбунтовались остатки человеческого достоинства, то бишь обуяла гордыня, самый страшный из грехов. Да и кто перед ним — сам Бог или архангел Гавриил, который является как бы начальником бюро пропусков при чистилище? Или небесный швейцар?
И тогда он рискнул пойти в обход: может, все-таки есть у него возможность хоть условно или хотя бы на полставки попасть в рай, поскольку в ад, конечно же, ему ну никак не хотелось.
— А что в книге моей написано — больше грехов или добрых дел? — спросил он.
— В какой книге? Мы не отдел кадров и не спецслужбы, где имеются на тебя дела. У нас деяния. Ты имеешь в виду «Книгу деяний?» Зачем тебе она нужна? Обжаловать мои действия хочешь, что ли, душа любезная? Вроде бы неплохой поэт, а с бюрократиной… Амбарную книгу изволите подать или счеты с деревянными костяшками, чтобы тут же, слюнявя пальцы, подбить бабки?
— Если в рай нельзя, тогда направляйте в ад, — согласился Иван Где-то. Словно во времена Брежнева принял встречный план — после этого адская перспектива представала не в жанре наказания, а добровольного желания пострадать больше положенного.
— Что, захотелось вместо перестройки и демократизации в теплое местечко попасть? Схимничать хочешь? — спросил собеседник и не очень-то знакомое слово прозвучало у него почти как «схимичить». — Ты, помнится, недавно захотел по правде, честно и чисто, в моральном плане, жить? А не дали? Крапулентин этот, директор издательства, отверг твою лучшую книжку, а ты на радостях да в больницу? Туда дружок твой, министр, примчался, а медики, коновалы, захотели пыль пустить в глаза важному чиновнику, вот и угробили тебя в самом прямом смысле. Большая драка была за тебя, душу то есть, между Великим Дедкой и Всемосковским Лукавым. Но ты, молодцом, мимо них да шасть на нашу лестницу. К Абсолюту взял направление — учти, это единственный случай, когда ты совершенно правильно поступил.
— «Абсолют» — водка такая появилась. Пробовал — сучок сучком. Может, самопальная попалась, — вставил Иван и тут свое мнение.
— Не ерничай, не шалабола перед тобой, любезный. Водку он пробовал! Ишь ты — на Руси невидаль какая… А кто глаголом будет жечь сердца людей? Кто?!
— А жечь что, есть ли они еще — сердца? Кровяные насосы с искусственными клапанами… — опять не сдержался Иван. — По-вашему как: пометили младенцу темечко — быть тебе русским писателем, да? Все, мол, само собой образуется у Богом отмеченного, да? А им, талантливым, и жить не хочется. Живые станут завидовать мертвым — это обещание уже выполняете? Знаете ли о том, что приятель мой незабвенный, Коля Рубцов, показывал мне вологодскую деревеньку на угоре и грустно говорил при этом: «Здесь каждый год в избу бьет молния. Все уже выехали, осталась одна семья. Как она уедет, я обязательно поселюсь здесь. Буду ждать молнию, когда она в меня ударит». Не от молнии погиб, а от взбесившейся бабы… А страной кто правит? Если не живодер, так самодур. Ленька-то с колес правил, а теперь — методом недержания речи? Моча М. Дойчеву в голову бьет? А власть-то от Бога! Или как? Только одного помазанника люди назвали Мудрым, да и то почти тысячу лет тому назад. Чем талантливые прогневили небо? Не награда это, а наказание. Тем более сейчас.
Саваоф призадумался, взял большим и указательным пальцами нижнюю губу в скобочку.
— Насчет талантов на Руси не от тебя первого слышу, — произнес он, выдержав многозначительную паузу. — Насчет же правителей, тут больше людских происков, нежели Божьего промысла. Вы же рай на земле строили под водительством большевиков. Соорудили ад. Взять последнего избранника — вместо крови вообще сивуха, рычит, крушит… А вам и по ндраву… Таланты разные бывают, в том числе и от Лукавого — злые гении. Этих все больше и больше, а ты — все-таки больше наш, от Бога который. И полагаешь, что рай своими деяниями заслужил? Тем, что стоял, получается так, насмерть, чтобы не разлетелись по миру идиотские мысли Аэроплана Леонидовича Около-Бричко? Так ведь это же верхушка проблемы, а суть в чем? Да в осатанении вашего так называемого прогрессивного человечества и советского общества в особенности. Торжество бездуховности, преклонение перед Мамоном, циничное презрение идеалов чести, достоинства, справедливости, всепрощение иудиному греху, да какое там всепрощение — поощрение! — вот что такое ваше общество сегодня.
— А оно разве только наше и нисколечко не ваше?
— И наше — тоже. Но дерзишь.
— Так что же вы, на небесах, от нас хотите? Если вам, всемогущим и всемилостивым, это не под силу, как и людям, то во что же тогда верить, на что надеяться и на кого уповать? Вы тут бездельничаете вовсю, а нам, почти одноклеточным и почти уже хладнокровным пресмыкающимся, велите бороться с судьбой, которой вы же и ведаете? Или — кого любите, того и наказываете, того и испытываете? Да сколько же можно так любить нас? Не лучше ли будет, если вы, небеса, отвернетесь от нас навсегда, оставите нас в покое — и Бог, и Дьявол? Сколько же можно нас так любить, душить в объятьях?..
— Вот оно — сатанинство из тебя так и прет. В плену смятения захотелось богоборцем побыть, ниспровергателем духа и морали? Ах, как красиво… Если это еще зарифмовать, то студенточки Литинститута кипяточком и обольются. Да ведомо ли тебе, душа Ивана, что страдание — единственный путь совершенствования человеческой природы?
— Но ведь счастье — лучший университет. Пушкин!
— Александр Сергеевич прав, — согласился Саваоф. — Но не безусловно — счастья-то надо добиться. Полагаешь, счастье — это удача, везение? Или, как сейчас принято у вас говорить, — халява? Увы. Счастье — это в высочайшем смысле Гармония. Как жаль, что ты не знаешь, как изобразил Всемосковский Домовой Знак Гармонии — тебя в этот момент доканывали коновалы. Гармония с самим собой, с небом и землей, с прошлым и будущим, со всеми людьми и всей природой — вот она, формула счастья. Только нет и не будет гармонии с Сатаной — гением дисгармонии всего и вся, разлада и разрушения. Ваше, как нынче вы сами же выражаетесь, дребанное общество идет по сатанинскому пути, называя это дорогой в цивилизованный мир. Мы с большим удовольствием вам подсобили бы, но вы же сами себе не желаете помочь!