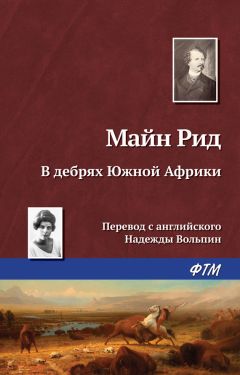Трамвай с грохотаньем катился по туннелям новых микрорайонов.
Луна и до сих пор там, в старом городе.
В гости к Севе он отправился с бутылкой вина и коробкой конфет -
Сева уже был женат. Добрался до так называемого частного сектора, который начинался сразу за шумной улицей, за стеной девятиэтажных домов. Резкий перепад высот, звуков, запахов. Огороды, сады, колонки, деревянные ограды, крылечки, калитки.
Вот где укрылся Сева, почему-то подумал он. Хотя – от кого и от чего ему теперь прятаться? Тяжелые времена позади. И, наверное, Сева для разнообразия и развлечения врет своей жене, теще. И даже отцу.
Почему бы и нет?
Отец Севы маниакально не любил ложь. А это не так-то просто – не врать, тем более в детстве. Даже взрослый герой Достоевского с жаром стоял на том, что потому ты и человек, что врешь. Разумихин, друг
Раскольникова. Это же любому школьнику известно. Предположить, что капитан Миноров не читал эту вещь, как-то неловко. Каждый следователь обязан читать этот роман по воскресеньям, как Библию.
Но что романы? Капитан считал себя человеком практическим. На практике ложь вредила ему, путала карты, выводила из терпения. И хотя бы дома имел он право рассчитывать на искренность? Он этого требовал от жены, от дочки и от Севы. Также и от родственников. Но особенно от Севы. А попробуй говорить всегда правду, одну только правду и ничего, кроме нее, если отец столь ревностно предан ей, а сам ты подвержен легкомыслию, о чем ярко свидетельствует твое главное увлечение: Сева был птицеловом. Разницу между пением камышовки и садовой камышовки он схватывал с лету, а строчки чисел с дробями сражали его в лоб. И обычно в конце учебного года надо было налечь на “хвосты”, чтобы не остаться на второй год, – а в марте наступало самое лучшее время для ловли щеглов (еще есть снег, но солнце светит тепло, сетка не путается в траве, можно на солнцепеке долго в засаде лежать, а птицы неразборчивы и жадны до корма), и в апреле возвращается лавина птиц, даже лебедей можно увидеть в ржавых заводях озера ТЭЦ, недалеко от города; и в мае – каждый куст трещит, звенит, надрывается: зяблики, чижи, зарянки, скворцы, зеленушки исполняют свою музычку… У одного мальчишки была зеленая пересмешка, птица такая, умевшая: трещать дроздом, мяукать иволгой, щебетать ласточкой, кричать галкой, цыкать вальдшнепом – и еще издавать чьи-то пока не расшифрованные крики. Он не продавал ее ни за какие деньги. Вот что значит: поймать свою птицу. Или у другого – скворец ржал. Скворца можно научить говорить. И человека – петь по-птичьи. Потому что только люди и птицы имеют эту способность – пересмешничать, подражать голосом. Сева умел копировать кукушку, славку, жулана, перепелку, крякву. Но от дробей он немел, а немецкий язык сводил ему судорогой челюсти. Немецкий он сразу воспринял как язык-наказание и хотел перейти в английскую группу, но там был, как обычно, перебор. Учитель немецкого Нисон Ясонович мягко укорял его: ай-я-яй, Миноров, ты непостоянен, а знаешь притчу об одном капитане? который вел корабль? хотя ему известно было, что корабль сбился с курса? но он был упорен и не хотел показаться матросам невеждой? и на корабле наступил голод, кончилась вода, – кончилась? кончилась, – и что же? – внезапно впереди появилась земля? и это был прекрасный остров? с плодами и чистой водой? и все спаслись? – нет! Миноров, ничего там не показалось, и все там погибли, но мужество, несгибаемость капитана стали притчей во языцех. Ученье – суровый труд.
И Сева чувствовал себя командой этого дурацкого корабля, ведомого сбившимся с курса капитаном. Высоколобый, с бакенбардами и величественным носом, а также с тяжелыми синевыбритыми щеками и подбородком Нисон Ясонович был скорее похож на владельца судоходной компании или фабрики по производству парусины. Но и на роль капитана сойдет, английского.
А настоящий капитан Миноров был у него боцманом – для расправы. На родительское собрание он приезжал на милицейском “уазике” с зарешеченными окнами, словно по экстренному вызову – хватать злоумышленника. Но злоумышленник, долговязый, ушастый, с грязными ногтями, сидел тихо дома, листая книжку с картинками “Птицы над полями”. Впрочем, как только в замочной скважине поворачивался ключ
– “Птицы над полями” улетали и на столе оказывался учебник нем. языка, и Сева бежал среди строчек, как собака по колючкам. Отец с порога требовал дневник, листал его, подсчитывая страницы… Севе ясно было, что врать бессмысленно, опасно. Но это как-то само собой получалось. Тут как в горах: маленькое эхо вызывает гигантскую лавину, одно неверное слово – и посыпалось. И самое интересное и странное – уже сам не в силах отличить правду от вымысла… А отец багровеет все сильнее. Он и так-то пришел: лицо как околыш фуражки.
Но птицу-тройку вымысла уже не остановить, она несется, как Гоголь, как Русь… И капитан, не вытерпев, начинает выдергивать ремень из брюк, ремень застревает, и тогда он чисто по-боцмански – бац! кулаком. Ну, наверное, не изо всей силы, а сдерживаясь. А вот ему под руку попадаются прыгалки дочки, и тут он жарит уже не окорачивая себя, от души, гоняется за Севой по комнатам, опрокидывая стулья, то и дело зачесывая свободной пятерней два иссиня-черных крыла, все падающие на серо-бешеные круглые глаза. Птицы в клетках молча наблюдают. Сева орет и визжит. Соседи знают: школьное собрание было.
Капитан-боцман давно бы разнес в пух и прах птичник. Но мирволит
Аленке, та любит разыгрывать всякие сценки с птицами, изображает из себя то фею, то учительницу… Волнистый попугайчик Мишка молчит, глупец, она топает на него, хмурит брови, восклицает: “Ох и бестолочь!” А тот мигнет и смотрит, клоня голову. “А теперь урок физкультуры!” – кричит она и выпускает попугайчика из клетки. Тот с радостным треском носится под потолком. “Вот жеребец”, – с досадливым вздохом говорит она, а самой хочется прыгать и чирикать вместе с ним.
После взбучки Сева не показывался на улице, сидел над учебниками.
Охлопков с Зимборовым подходили к его окну на первом этаже, чтобы посочувствовать, ободряюще покивать, помахать крылами, и Сева устало, мученически смотрел на них, тоже кивал и помахивал печально… но вдруг улыбался во весь рот и показывал обложку книжки с профилем индейца в уборе из птичьих перьев или с птицами райских расцветок. Профиль индейца чем-то напоминал учителя немецкого.
Немецкий! Сева и русский забыл бы и перешел на планетарный язык птиц.
“Парламент птиц” – так называлась книга древнего мудреца, перса.
Где-то Сева откопал информацию об этой книге – и начал искать ее.
Охлопков с Зимборовым тоже подключились к поискам; всем мерещилась какая-то необыкновенная книга. Наконец она была найдена – под носом, в школьной библиотеке. И называлась немного по-другому: “Язык птиц”.
Севе, видимо, попался английский вариант перевода. Действительно, какой парламент в средние века на Востоке? даже пускай это всего лишь парламент птиц. И автор оказался не таким уж древним. А сама книга – стихотворная темная сказка о том, как птицы под предводительством Удода собираются отправиться на поиски короля по имени Симург, живущего где-то на горе за семью долинами. Все сначала обрадовались походу за семь долин к горе с Симургом, но потом развели дебаты и один за другим начали отказываться. Соловей заявил, что ему хватает и Розы, зачем еще Симург? он будет петь сладкие песни рубиновой Розе. Удод ему: о, тупица! увлекаемый видимостью, тенями, соблазнительными формами, Роза смеется над тобой, откажись от нее и красного цвета, это тебя погубит!.. И все прочее в том же духе.
Предисловие показалось интереснее.
У автора была кличка Химик. После смерти отца он получил в наследство парфюмерную лавку-аптеку. И жил себе, процветал. Но однажды в жаркий восточный полдень, когда окрестные горы отрываются от земли и парят над нею и соловьи молчат, а люди сидят в тени и пьют зеленый чай или холодный шербет, в лавку к Химику вошел человек: голова обрита, на шее железный ошейник, в руке посох, тонкий и крепкий, как калам – пишущая тростинка, за плечами мешок, на теле рубище из голубой шерсти в заплатках, – дервиш. Зачем дервишу лекарство, если он всех сам лечит только взглядом и словом?
Или парфюм? – перебить вонь рубища, вонь тысяч ночевок в степи у костра из сухого навоза и верблюжьей колючки? Это так же невозможно, как под клюшку для игры в мяч петь песни, словно это струнный чанг, так же невозможно, как нельзя взять у осла мускус или выпросить у
Насреддина веревку для белья – “Извини, – скажет Насреддин, – но я сушу на ней муку”. – “Ай?! Как можно, уважаемый? Муку? Ай!..” – “Не так трудно, если не хочешь одалживать”. И Химик велел дервишу проваливать. А тот улыбнулся и сказал: “Мне это просто. А попробуй это сделать ты”. И ушел, легонько пыля тростинкой. Химик почему-то очень сильно удивился, потом оглядел полки со склянками и всяким сопутствующим товаром, о чем-то подумал… взял и однажды ушел. И его поглотило пыльное раскаленное пространство Азии и поэзии. Начал он странствовать и писать стихи. И стихи его благоуханнее были склянок с мускусом и розовым маслом на полках парфюмерной лавки. -