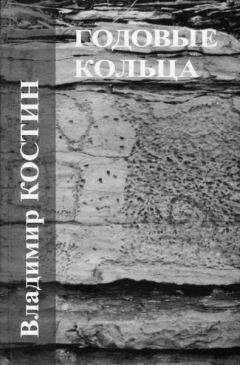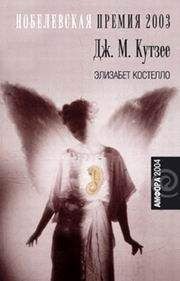— Плакала моя шапка! Водитель забрал в залог, — сказал он со значением, холодно. И добавил лишнее: — Увидел: человек приличный, им попользовались — мной. Слова худого не сказан. Извинился но забрал шапку, под выкуп.
— Как же ты мог? — раздраженно сказала Люба, — рохля рохлей, куросмех.
— То есть как это я «мог»? Это Латы меня без шапки оставили. Это они из-за ста рублей паршивых… — голос его все-таки дрогнул.
— Не надо про рубли! Не клевещи про рубли, — сказала Люба, — просто необдуманная шутка. Но раз так вышло, ты должен был побежать. А ты, что нехристь, что-то доказывать стал.
Они поднимались по лестнице, Люба стучала каблучками свыше, не оглядываясь на Крылова. Он был виноват.
— Попользовался случаем, — сказала она подоконнику на лестничном пролете. Легкая, лозовая, с камейным лицом, она волей и верой берегла границы своего тела целое поколение. В нее был отчаянно влюблен двадцатипятилетний юрист-сослуживец. На его рабочем столе красовался в малахитовой рамочке ее псевдоанонимный, узнаваемый с первого прищура черный силуэт, окруженный силуэтиками бабочек.
Птичий, весенний гомон из-за ложниковских дверей смягчил ее. Она все-таки удостоила мужа взглядом и сказала:
— Что теперь. Какие проблемы — завтра выкупим. Хочешь, я с тобой поеду?
У Крылова запотели очки. Это окончательно обезоружило, оголило его.
— Очень хочу, спасибо, — ловя ее на слове, благодарно ответил он и погладил рукав ее шубы. Через миг он уже презирал себя за щенячью слабость: задешево предал он свою обиду, теперь бесправную, как вошь на гребешке.
Смородина встретила его стоя, с налитыми бокалами в руках. Спектакль открывал Строев. Вкрадчивым голосом просветителя-натуралиста он начал: — «Не все, наверное, видели этот кустарник с пепельно-серебристыми листьями. Он попадается в самых неожиданных местах Крымского полуострова…»
Шаг вперед сделала Таня Бронникова: — «Упрямое это растение, живучее, выносливое. Может быть, поэтому с ним связано немало легенд»…
Бронников захохотал, обливаясь водкой: — «…И зовут его…» — от, черт — «и зовут его лох серебристый!»
Под жизнерадостное кипение Смородины Неелов и Стаханов, встав на одно колено, с двух сторон поднесли Крылову полный бокал водки и пузатого боровичка на вилке. Раздались аплодисменты.
Крылов выпил, закусил, у него загорелись уши, он через силу улыбнулся и сел со всеми за стол, на любимое место рядом с аквариумом. Тощая золотая рыбка выплыла к нему из освещенных глубин, ткнулась носом в стекло и трижды разняла усатый рот: «лох лох лох».
— Дедушка! — сказал Бронников, — ты уже не сердишься, вижу. Пошутили, плюнь, нешто нам в мазу тебя чморить? (Нравится ему ворошить этот словесный мусор!)
— Экспромт подвел, — блеснула взором Таня, — но идея-то — согласись, батая!
«Глаза у них лживые, как у милиционеров», — подумал Крылов.
Разбежалось, заструилось застолье: мягкие, грудные голоса, округлые, симпатичные жесты подавания и накладывания. Все цвета радуги осыпались на этот стол, запахи соревнуются: горячие — густые, но рыхлые, пехота, холодные — мерцающие, но ножевые, кавалерия. «По крайней мере, проголодался», усмехнулся Крылов и пустился безудержно питаться, наворачивать. Зоя Строева кивком указала на него Маше Ложниковой. Та понимающе вернула ей кивок и еще раз-другой поглядывала на Крылова, сдвигая брови: найдите пять отличий?
Разговаривали по заведенной канве. Дети, работа, треволнения третьих лиц — общих знакомых, немного про электронных людей, чуть-чуть о политике: Буш подавился сушкой. Свежие анекдоты из жизни (анекдоты уличные и газетные презирались, от них отдает сортиром).
Строев, практично сменивший геологию на оптовый склад на Бердской, позавчера выпивал с партнером, сентиментальным кавказцем. Тот угощал Строева поддельным армянским коньяком. Уверял, что бурда из дедушкиной бочки за 1969 год, «горьчит» по технологии. А разомлевши, маленький, коренастый, вдруг выпалил мокрыми губами; «Петя-джан, ты не смотри, что я — птичка-невеличка. Когда я молодой в армии служил — у меня рост был два четыре, вес сто килограммов. Под меня в десанте лично парашют подгоняли, усиливали. Годы идут, сушат меня годы, врачи говорят: феномен науки».
Психиатр Бронников, благодаря профессии, был неисчерпаем на байки, выдавая устную газету «Новости Соснового Бора». Люди былой Советской страны продолжали настойчиво впадать в манию величия.
Помните «Аллу Пугачеву», спросил Бронников. Моя первенькая! (Как не помнить? Была девушка, которая превратилась в Пугачеву, пела все ее песни тех лет, с хорошим слухом. Когда приходила очередь «Арлекино», она впадала в экстаз, кошмарно крутила попой и на припеве «хо-хо» задирала юбку. Юная Таня Бронникова изображала, как это выглядело. Она нарочно ездила к мужу на работу, наблюдала героиню, чтобы номер получился достоверным. Сам Бронников смутился, когда она вскинула юбку и показались трусики, несущие на плотных, боевых полушариях две красных звезды, нарисованных для пущего смеха. Стаханов тогда потерял дар речи и, вроде бы выйдя покурить на улицу, сбежал из Смородины, — конечно, на одну веселенькую квартирку для нетерпеливых.)
Так вот, днями поступил новый пациент. Зовет себя «я поп-король Влад». Исполняет сотни песен разных нынешних певцов, помнит все слова, не сбиваясь: «я тебя, ты меня, поцелуй меня везде, единственная моя, ласковая, нежная, голубая луна!». Сердится, чуть ли не лезет в драку, если товарищи начинают дразнить-подпевать, издевательски заменяя слова. Этот «Влад» вызвал настоящую эпидемию. Оказалось, даже безумцы уяснили, что тексты современных песен живут в синтаксисе отборных матерных выражений. И начали здорово злоупотреблять этим, увлеклись, распоясались. Почти на неделю они устроили всеобщую игру — настоящее массовое помрачение (или просветление?) рассудка. Мат распевался в каждом углу, в большом коридоре, под дверями врачебных кабинетов.
Главный врач влепил Бронникову нагоняй: тихое отделение в полном составе вышло из-под контроля — и это накануне дружеского визита японских коллег!
Бронников сначала велел за каждый матерок очистительно кормить буянов мылом. Не помогло. Они не дети — ели и продолжали распевать. И мыло кончилось.
Тогда (вчера) он додумался: пообещал им, что заведет в отделение пожарную машину и зальет их из брандспойта воспитательной ледяной водой. Врач из соседнего отделения, Липухин, надел на голову сверкающий детский рыцарский шлем, якобы каску пожарного, ходил по палатам и спрашивал у Бронникова: этот ругается? Эта ругается? Бронников стучал: ругается, да. Липухин отмечал в записной книжке: «Палата номер шесть, больной Корюков — один кубометр воды».
Тут психи притихли. Вижу, излагает Бронников, сбились толпой у телевизора — стульев не хватило, на полу расселись — и молча смотрят полезные для них новости про Грузию.
А новая наша звезда — без голоса, без слуха, визжит безбожно. Но самое смешное — этот «Влад» есть женщина, сорока семи лет, три года прослужила домработницей у заместителя мэра города. Времена меняются!
(«Где-то я это слышал сегодня?» — подумал Крылов.)
Бронников сдержанный, как заслуженный артист республики, принимал привычные похвалы. Ложников, впрочем, без претензий, тоже попробовал рассмешить Смородину. Сын Максим летом на даче съел целиком на спор острый перчик, а потом, вопя, бегал вокруг дома и в итоге засунул голову в бочку с дождевой водой. Ложников был никудышний оратор и рассказывал историю раз в четвертый, по забывчивости.
Маша с Любой вынесли с кухни Чернильницу и трижды обнесли ею стол. Перед балконом сняли с нее крышку, запалив спичку: пых! — и пошел олимпийский аромат.
— Вино виноградное! — сказала Маша.
— Специи специфические! — сказала Люба.
Общество, теснясь в балконных дверях, двинулось на воздух. Крылов с Бронниковым, как Чичиков с Маниловым, застряли живот в живот. Бронников, инстинктивно неучтивый, пропихивался первым. И Крылов, сам того не желая, брякнул ему: — Вы же знали, что я не побегу. — А почему, собственно? Ничего мы не знали, — быстро, зло прошептал Бронников, закатывая глаза, и проскочил на балкон. Крылов физически почувствовал, как укусили его со всех сторон глаза друзей: надоел, мелочный!
Пели «Калитку», «В степи молдаванской», «Песню цыганки». Зоя и Таня, обе — смуглые, фараонистые — сестры Лисициан, задавали тон. Окосевший Неелов раскрыл было чрево, но получил по затылку от Маши и перешел на безвредную декламацию. Крылову не пелось, и не от обиды — от усталости, недовольства собой. Он жалко шевелил губами, подозревал, что это могут истолковать, как протест, но сил не было.
Пили глинтвейн, Чернильница, так сказать, курилась. Перед ними, под ними стелился правильный квадрат ночного двора с цепочкой гаражей, детской площадкой, замершими жидкими деревцами. Его наискось рассекал сноп прожектора с башенного крана по соседству. Жестяной петушок над горкой отбрасывал чудовищную тень, она шевелилась сквозь порхающий снежок, как чуткий динозавр, услышавший непонятное и в тревоге привставший на месте.