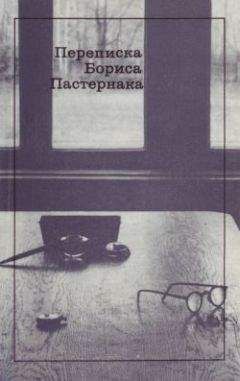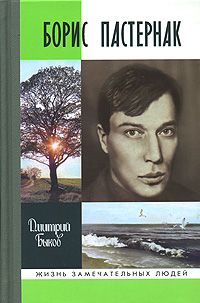Но хуже всего было для Ядне, что любимец божий не чурался шуток.
— Твоя воля, — сказала она глухо, и ответ ее не понравился мужу.
Тут и сбылся страх.
— А что — хорошее дело, — весело сказал Мэбэт и дружески хлопнул по плечу Езанги. — Какой калым дашь?
— Сразу пять оленей пригоню! Сразу пять! — выкрикнул, подпрыгнув, гость. — И еще две шкуры дам… Три шкуры!
Ядне молчала.
— Хозяйка, — кричал Езанга, — сынок у меня шибко хороший! И поет, и пляшет, и уже сам петли ставит…
— Слышала? Пять оленей! — хохотал Мэбэт.
— А еще потом…
— А еще потом — слышала? Будешь мне каждый год девок рожать — на одном калыме обогатимся. На охоту ходить не надо. И сына не надо — зачем мне сын?
Грязной рукой Ядне закрыла лицо и скрылась за пологом — было слышно, как она плачет.
Рожа Езанги светилась от счастья.
— Ничего, поплачет твоя хозяйка, потом рада будет, сам увидишь.
Веселье вдруг сошло с лица Мэбэта.
— Почему ты ко мне пришел? Разве ты не слышал — кто я? Или других, тебе подобных, не нашел в тайге?
Езага смутился:
— Так ведь… люди всякое говорят. Я не слушаю — сам вижу: человек ты шибко хороший… Красивый человек. И дочки, опять же, у тебя…
— Вот этой, — Мэбэт указал на старшую девочку, — три года, четвертый. За нее сорок оленей отдашь.
— Сорок оленей, — прошептал Езанга.
Кожа с широких скул поползла к безгубому рту, и глаза стали больше. Непосильную мысль перебирал в голове нелепый человек, повторяя: “Сорок оленей, сорок оленей…”
Любимец божий оборвал его:
— Сорок оленей за дочь Мэбэта — это даром.
Помедлив и не меняя выражения лица, Езанга повторил:
— Даром… — Глянул в небесные глаза любимца божьего и сказал громко: — Сорок так сорок. Красивый ты человек, шибко красивый. Я люблю красивых людей.
Ударили по рукам — и был колыбельный сговор между Мэбэтом из рода Вэла и Езангой из рода Нэвасяда.
Через несколько дней отец пятилетнего жениха пригнал в становище отца трехлетней невесты пять оленей и привез две оленьи шкуры. Столько же обещал давать каждый год, пока весь калым не выплатит. Сговор отпраздновали: Езанга объелся и, довольный, распевал свои песни, сидя на комле и болтая ногами…
Осенью того же года в день первого снега трехлетняя невеста каким-то чудом вскарабкалась на высокий лабаз и упала с него, ударившись головой об острый камень, — и умерла невеста. Откуда Запутавшийся В Силке узнал про беду — неизвестно. Однако уже на другой день примчался он в становище Мэбэта и в голос плакал вместе с Ядне и говорил, плача:
— Ой, не надо бы плакать… не надо бы… плыть ей через реку слез… от наших слез река разливается… не надо бы плакать…
“Совсем дурак”, — глядя на Езангу, подумал Мэбэт — но без злобы подумал. Тем же днем предложил ему другую дочку, которой год с небольшим.
Езанга согласился.
Однако гибель трехлетней невесты оказалась лишь предвестием большой беды. Двойной мор пошел по тайге, убивая и в чумах и в стадах. Оленей Мэбэта болезнь почти не тронула, но еще до весны забрала у него двух дочерей — и остался божий любимец бездетным. Езанга все так же приезжал и плакал — его не прогоняли. У нелепого человека болезнь выкосила и без того худое стадо. Из людей забрала лишь мать-старуху. Жена и дети остались живы, но грозила им тяжкая голодная участь.
Жена выла, и Езанга пытался успокоить ее словами, что, мол, охотой прокормимся, но сам понимал бессмысленность своих утешений. Видно, прогневили люди бесплотных, не сговорились с духами, и вместе с мором начала тощать тайга. Зверь попадался все реже, в охоте на сохатых волки были удачливее людей…
Начала жена подговаривать нелепого человека: раз у Мэбэта нет больше невест, пусть вернет те пять оленей, которых получил по сговору.
— Что ты! — махал руками Езанга. — Думай своим носом! У сговора обратного хода нет.
Но жена брала настойчивым вытьем, в котором слышалась вполне разумная речь о том, что пять оленей хоть крохотное, но стадо. А без него — погибель.
— Ты говорил, Мэбэт человек добрый, — причитала жена. — Пусть не по обычаю, по доброте отдаст пять оленей.
Наконец одолел этот плач Езангу, и, собравшись духом, отправился он в становище любимца божьего.
Вид его был под стать имени — запутавшегося в силках. Начал он издалека, но не успел добраться до просьбы — Мэбэт все понял:
— У сговора обратного хода нет — разве не знаешь?
— Знаю…
— Тогда зачем пришел?
— Жена доняла…
— Уйми жену.
— Всем горе было, Мэбэт, всем горе… А пять оленей хоть малое, но стадо. Может, на то будет чья-нибудь благая воля — выживем мы, тебя благодарить будем...
Мэбэт рассмеялся:
— Думаешь, нужна мне благодарность — твоя и твоей кривобокой жены?
Езанга сглотнул горькую слюну и уж собрался было уходить, но все же спросил:
— Почему ты не хочешь отдать мне оленей, Мэбэт? Обычай не хочешь нарушать?
— Я сам себе обычай.
— Отдай, — жалобно попросил Езанга, — я никому не скажу.
Любимец божий взял незваного гостя за плечи — ростом он едва доходил до груди Мэбэта — развернул к себе спиной и легонько толкнул, отчего Езанга пробежал несколько шагов и едва не ткнулся носом в снег.
— Не проси больше, — сказал Мэбэт, — и не приходи. Кончился сговор.
Ни с чем вернулся домой нелепый человек.
Он был отец семейства и годами ровесник Мэбэту, но по-прежнему не отличал больших от малых, сильных от ничтожных. Все люди для него были одинаково хороши. Даже когда смеялись над ним, запутавшимся в крапивной сети, ни обиды, ни мести в нем не осталось. Печаль его была оттого, что все же он надеялся на милость несбывшегося родственника, стадо которого почти не пострадало.
А дальше — хуже стало. Последние запасы доели, с охоты Езанга приносил только малых птиц — тетерку или рябчика, а то и вовсе с пустыми руками приходил. К весне голод ступил на порог. Жена с детьми ходили шатаясь, последний кусок отдавали кормильцу, чтоб хватало ему сил пытать счастья в тайге, но скоро и последнего куска не стало. Собрались было к родичам жены на милость идти, но жили родичи далеко, и сил дотащить нарты не было. Да и не приняли бы их родичи — у самих, по слухам, больше половины стада выкосил мор и не спешил уходить…
Однажды утром сынок Езанги не проснулся — вечером есть просил и, недопросившись, во сне умер. После этого жена будто помешалась на тех пяти оленях.
— Если бы не пять — хотя бы один олень, один… Закололи бы, наварили супа, потом глодали бы кости, так бы и сынок наш выжил… Отмстил нам Мэбэт: нету теперь ни жениха, ни невесты.
Тут мысль вошла в незатейливый ум и смиренное сердце Езанги: по обычаю — олени принадлежат Мэбэту, но по правде — ему. Потому что правда в том, чтобы человек был жив. А если умрет — какая тут правда? Зачем она мертвому? По правде, с теми пятью оленями дотянули бы они до лета и сынок не умер бы.
Как вошла эта мысль — так и не отступала. Возроптало сердце Езанги. Стал он храбрый. Не сказавши жене, поутру поплелся к Мэбэту. Когда к становищу подходил, нутро замутило от сладкого пара, исходившего из котлов и разносившегося по тайге: котлы Мэбэта в обоих чумах бурлили мясным месивом. Собирался божий любимец аргишить, приказал сварить много мяса в дорогу. Странным могло показаться — однако, согласившись с уговорами жены не дразнить горе, он решил сняться и уйти подальше от гнилого места.
Езанга ввалился в чум без спросу, сел у порога:
— Сын у меня помер, Мэбэт. К весне все помрем. Отдай оленей — по правде они мои.
Так сидел он и молчал, ждал, что ответит хозяин. Но вдруг сказала Ядне:
— Отдал бы ты ему оленей, Мэбэт. У самих горя полные туеса, впору по людям разносить… Не разноси горе, отдай оленей, у нас ведь много.
Мэбэт поднялся.
— Пойдем, — сказал он Езанге, — отдам тебе то, что по правде причитается.
И вытолкал его из чума.
Они пошли за становище. Нелепый человек плелся за любимцем божьим, думая, что идут они к загону и там он получит свое, спасительное.
Мэбэт не собирался отдавать оленей. Не из-за обычая — просто воля его противилась. Он хотел крепко побить Езангу, чтоб не смел на большую ходьбу приближаться к его стойбищу. Так было сделано сердце божьего любимца — оно не принимало горя, как и полагается сердцу счастливого человека. Оно принимало только досаду — и от великого горя, разлившегося по тайге, разлилась в нем великая досада, и мешала жить, и требовала утешения. У досады было лицо Езанги.