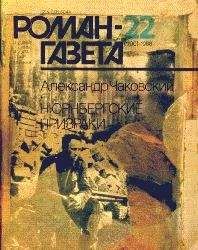— Когда по моему поручению снабдил вас оружием?
— Мне нечего от вас скрывать, раз вы и так все знаете. Но вы не знаете одного: мы победим! И, когда мы встретимся после нашей победы, я напомню вам все, о чем вы сейчас говорите.
— Если все пойдет так, как идет, то мы не встретимся, Рихард! Я скоро уеду…
— Уедете? Но куда? И почему?
— Срок моего пребывания в Германии заканчивается, и меня отзывают домой, в Штаты…
Почему он произнес эти слова с печалью? Неужели ему, проведшему столько времени в Германии, не хотелось на старости лет вернуться домой? Правда, там, за океаном, его никто не ждал. У него был дом, особняк в Филадельфии, уже четверть века стоявший пустым, — у Гамильтона не было семьи. Но он уже не ощущал в себе достаточно сил, чтобы начинать жизнь сначала.
Была у Гамильтона и другая причина, чтобы разочароваться в жизни: в Ленгли в последнее время им явно были недовольны. Главный резидент ЦРУ, находившийся в Бонне, уже несколько раз намекал, что ему, Гамильтону, не удастся обеспечить победу НДП на предстоящих выборах, что победить могут социал-демократы или двухпартийный союз ХДС/ХСС, и тогда… тогда дело кончится советско-германским договором. И осуществление заветного желания НДП восстановить Германию в границах 1937 года отодвинется куда-то вдаль…
Не так давно курьер из Вашингтона передал Гамильтону прямое указание готовиться к скорому отъезду.
Что ж, Гамильтон был теперь богатым, до конца своей жинзи обеспеченным человеком, и перспектива спокойного существования на родине не так уж страшила его…
Если бы не одно важное обстоятельство. Оно, это обстоятельство, потрясло всю душу Гамильтона, окаменевшую, зачерствевшую уже много лет назад, недоступную почти никаким чисто человеческим эмоциям.
И это потрясение заставило его через свою агентуру в группе Клауса следить за каждым шагом Рихарда, оно же заставило Гамильтона ждать сегодня его появления у здания суда, прервать бег Рихарда и привезти его сюда…
И все нынешние разговоры с Рихардом, касавшиеся и немецкой истории, и будущего Германии, и дальнейших перспектив НДП, Гамильтон вел, все еще будучи потрясенным и мучительным усилием воли скрывающим это потрясение. Но когда вырвалась фраза о предстоящем отъезде в Америку, он уже не мог больше сдерживаться. Не мог потому, что видел, чувствовал — Рихард воспринял это сообщение как совершенно обыденное, мало его трогающее, может быть, даже чем-то радующее: ведь тем самым он избавлялся от навязчивого попечительства, а то, что забота его, Гамильтона, вызывала у Рихарда с трудом сдерживаемое раздражение, он видел.
И тогда Гамильтон, чувствуя бесцельность, бесперспективность своих попыток переубедить Рихарда, остановить его на пути к собственной гибели, решил сделать первый шаг…
— Да, — повторил он, — я скоро уезжаю. И в этой связи хочу сделать тебе одно предложение… — Я бы хотел, чтобы ты уехал со мной в Америку, — с трудом сбрасывая часть мучающего его груза, произнес Гамильтон.
— В Америку? — изумленно переспросил Рихард. — Вы что это, всерьез?
— Послушай меня, Рихард, послушай без предубеждения. — Гамильтон положил руку на подлокотник кресла, в котором сидел Рихард. — Тебе скоро исполнится двадцать пять лет, верно? У тебя до сих пор нет законченного образования. Какие перспективы открывает перед тобой жизнь здесь, в Германии?
— Осенью я поступлю в университет! — протестующе сказал Рихард. — И вообще… вообще то, что вы мне сейчас предложили, звучит просто нелепо!
— Но почему? — пожал плечами Гамильтон. — В Америке ты мог бы закончить свое образование…
— Плевать я хотел на образование! — воскликнул Рихард. — Я немец, солдат фронта, пусть пока еще тайного!
— Понимаю. Но тайная борьба тоже требует особых знаний, навыков, профессионализма, если хочешь. При желании ты мог бы окончить в Соединенных Штатах специальную школу. И наконец, если твое желание не изменится, вернуться в Германию уже зрелым офицером-разведчиком.
— А до тех пор отсиживаться в глубоком заокеанском тылу? — возмутился Рихард. — Я оставил семью, мать, любимого отца. Я решился на это только потому, что поставил долг перед родиной превыше всего. Отец отговаривал меня, боялся за мою жизнь. Но в конце концов понял меня и согласился. А теперь… Как я буду выглядеть в глазах отца, когда он узнает, что я променял жизнь под его крышей не на Германию, а на то, чтобы, прожив в ней меньше месяца, удрать в Америку?
— В глазах отца?.. — с какой-то странной задумчивостью повторил Гамильтон. И после короткой паузы медленно, с усилием, точно преодолевая внезапный спазм, произнес: — Я твой отец, Рихард!
— Что?! — Рихард вскочил со своего места.
— Сядь! — повелительно произнес уже овладевший собой Гамильтон.
— Вы хотите сказать, что забота обо мне дает вам права моего второго отца? — все еще стоя, сжимая кулаки, продолжал Рихард. — Или вы полагаете, что купили это право за деньги, которые мне в прошлый раз дали? Так я готов швырнуть вам эти деньги обратно!
— Сядь, я тебе говорю! — уже более жестко повторил Гамильтон.
Рихард почувствовал, что силы покидают его. Он невольно опустился в кресло.
— Еще раз говорю тебе: я твой настоящий отец, — сказал на этот раз тихо, даже мягко Гамильтон. — Адальберт Хессснштайн, ныне Альбиг, которого ты всю свою жизнь считая своим отцом, — мужественный и честный солдат. Я уважаю его заслуги в борьбе с коммунизмом, иначе не помог бы ему и Ангелике перебраться в Аргентину. Но… он не твой отец.
— Но какие лее у вас основания… — начал было Рихард, однако Гамильтон остановил его:
— Подожди. Я понимаю, как тяжело тебе все это слышать, но ты должен знать правду. Война — это не только сражения с оружием в руках. Война меняет судьбы людей, ставит их в такие отношения друг к другу, о которых они и подумать не могли в мирное время. Словом, тогда, в сорок пятом, меня послали на работу в Нюрнберг. Предоставили хороший помер в гостинице. Но мне хотелось иметь свою личную, пусть небольшую, но удобную, тихую квартиру. В американской комендатуре дали несколько адресов на выбор. Я и сейчас помню, как позвонил в дверь небольшого особняка. Мне открыла невысокая молодая белокурая женщина, к которой я сразу почувствовал необъяснимую симпатию. Потом я узнал ее имя — Ангелика.
— Перестаньте! — снова сжимая кулаки, воскликнул Рихард.
— Нет, подожди. Ты должен выслушать все это, иначе не поверишь… На мне была форма американского военного корреспондента. Я представился фрау Ангелике и показал бумажку из комендатуры. Ангелика сказала, что живет одна, что ее муж или убит, или пропал без вести на фронте и что на втором этаже дома есть две свободные комнаты… Я решил взять их. Сказал, что буду платить продуктами или долларами… Мы договорились…
— Я все понял, все! — снова воскликнул Рихард. — Остальное можете мне не рассказывать! Моя мать голодала, жила с черного рынка, и вы купили ее, да, да, купили, своими продуктами, своими проклятыми долларами!
— Нет, нет… — смущенно пробормотал Гамильтон, а потом продолжил уже более твердо: — Ей действительно было тяжело… Продавала или выменивала на продукты оставшиеся ценности. Кроме того, она жила одна в доме из пяти комнат, три внизу занимала сама, две верхние оставались свободными. Ее могли выселить как жену бывшего гестаповца или, во всяком случае, заселить верх… Мое пребывание стало для нее своего рода охранной грамотой…
— И вы потребовали компенсацию за эту грамоту?!
— Я ничего не требовал, Рихард, пойми! Но ты представь себе ситуацию: одинокая женщина и одинокий мужчина, ещё далеко не старые, живут вместе в пустом доме… Ты уже достаточно взрослый человек, Рихард, и не можешь не понимать… Да, очевидно, я не был ей противен…
— Прекратите! Я не хочу слушать всю эту грязь! — отворачиваясь от Гамильтона, крикнул Рихард. Потом овладел собой и спросил холодно и отчужденно: — Как долго это продолжалось?
— Вплоть до неожиданного появления мужа Ангелики. Того, кого ты считаешь своим отцом. С этого момента наши отношения, естественно, прекратились.
— Но откуда же у вас уверенность…
— Я знал, что ты задашь этот вопрос. И у меня не будет выхода, кроме как… — Он запнулся, встал с кресла и сказал: — Подожди минуту.
С этими словами Гамильтон вышел в соседнюю комнату и быстро вернулся, держа в руках какой-то конверт.
— Я получил это по своим каналам, спустя день после твоего приезда. Я не хотел давать тебе это письмо. Но если все мои слова бессильны… На, прочти. — И Гамильтон протянул Рихарду конверт.
Тот взял письмо, едва удерживая его в руке, пальцы внезапно точно окостенели. Конверт был распечатан. Рихард вытащил из него сложенный вдвое листок плотной бумаги. Развернул этот листок, и сердце его забилось так сильно, что он ощущал его биение не только в груди, но и в висках: едва взглянув на покрывающие бумагу строчки, Рихард узнал почерк своей матери. Она писала: