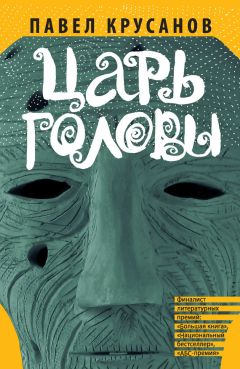– В окружающем нас пространстве, – Увар ловко жонглировал тремя прихваченными со стола мандаринами, – должно быть много новых девушек. Слава Богу, так оно и есть.
Старый селадон! Вообще-то Увару было уже крепко за пятьдесят, но женские коленки, волновавшие его всю жизнь, не давали ему покоя и теперь, что, впрочем, ничуть не умаляло его природного барственного достоинства. В свое время Увару пришлось много поездить по стране в составе археологических экспедиций – Алтай, Казахстан, Молдавия, станица Недвиговка, Фанагория, Восточный, Центральный и Западный
Крым, – так что его высокое либидо, возможно, объяснялось именно этим: ведь нас постоянно удивляют болезненной неугомонностью люди, чей род занятий связан с переменой мест, скажем, моряки и шоферы.
Я позвал Увара в кабинет, чтобы приватно, без посторонних глаз вручить ему премию за циклы статей-фантазий о чудесных исцелениях, денежной реформе и самопроизвольном росте национального валового продукта. Это и вправду оказались удачно брошенные камни – круги от них пошли что надо. Собственно, нужен был толчок, первоначальное усилие, чтобы маятник сдвинулся с места и, парадоксальным образом набирая амплитуду от самого сопротивления средыпространства, взялся раскачиваться сам собой. Так и случилось: тему тут же подхватили падкие на информационную моду и охочие до всякой трескотни газетчики, телевизионщики и сетевые дятлы. О первоначальном импульсе, как водится, никто уже не помнил. Кроме нас, само собой.
Достав из ящика стола конверт, я протянул его Увару. Никаких премиальных сверх полученного уже гонорара он не ждал, поэтому, положив на стол тут же разбежавшиеся мандарины и заглянув в конверт, присвистнул.
– Это мне?
– Заказчик посчитал, что ты достоин поощрения.
Чтобы не путать дружбу со службой, мне приходилось играть перед
Уваром роль посредника. Впрочем, это было обоюдоудобно и, скажем прямо, отвечало положению вещей.
– А мог бы ты подготовить серию ярких, внятно аргументированных антиамериканских материалов непримиримого свойства? Ну, мол,
Америка – это плод разума, мечущегося в поисках наживы. Мол, все свои помыслы, все мечты, вожделения и страхи американцы, будучи логическим продуктом западной цивилизации, построенной на геноциде третьего мира, направляют наружу, вовне, вместо того, чтобы искать смысл там, где ему самое место, – в собственной душе, посреднице между низким миром разумного тела и миром горнего духа. Ведь в этом и заключается парадокс их сытого проклятия – презрев мир духа во имя торжества разума и тела, они выхолостили свою жизнь, лишив ее смысла, достоинства и цели. А лишившись этого, они лишились и самой реальности.
– Отчего же не подготовить! Тем более все, что ты сказал – правда. -
Весьма довольный, Увар спрятал конверт в карман. – Только либеральная интеллигенция писк поднимет.
– А заодно с Америкой потопчи и либеральную интеллигенцию. – Мимикой я изобразил на лице работу мысли. – Скажем, так: основная функция нашей либеральной интеллигенции в последние десятилетия – дискредитация национальных героев и светочей национальной культуры.
Да и вообще любых идей, связанных с континентальным проектом и третьим царством.
– А что? – усмехнулся Увар. – Были “Вехи” и “Смена вех” – пора устроить следующую ревизию. Необходима трезвость самоотчета. Как ты знаешь, я не марксист, но мне близка фундаментальная позиция Маркса.
– Какая именно?
– Последняя. Та, что начертана на его могиле: “Философы лишь объясняли мир. Смысл в том, чтобы его изменить”. Здесь есть какая-то витальная, деятельная правда. – Увар быстрым движением – туда-сюда – провел рукой под носом. – Правда юности, правда живой крови, еще не загустевшей в желатин.
И он развил мысль в том направлении, что, мол, Марксу как никому удалось реализовать последнее утверждение собственной эпитафии. Он,
Маркс, как бы подвел черту под многовековой историей философии – или пытайся изменить мир, или ты не философ. Его нынешние коллеги из либеральных интеллигентов (речь про философский цех), пытающиеся транслировать себя в бессмертие исключительно с помощью голых текстов, здорово ему проигрывают. Поэтому завидуют и мстят. Мстят замалчиванием и уводом разговора в сторону. В сторону необязательных слов, лишенных убеждения и веры, и случайных действий.
– Энгельса и вовсе затерли, – заключил Увар. – А ведь это неправда, что места в истории всегда хватает только на одного.
Что ж, Увара с чистой совестью и открытыми картами можно было подключать к операции “Другой председатель”, он вполне был к этому готов. Иное дело, что без санкции Капитана я не имел полномочий на такие действия. Хотя подобные случаи специально нами не оговаривались, я считал себя не в праве ставить кого бы то ни было в известность касательно наших планов без предварительного согласия директора “Лемминкяйнена”. Довольно и того, что я открылся перед
Олей. Но тут особая статья. Это личное, почти интимное. К тому же, лютка в деле с самого начала – даже прежде меня. И потом, еще неизвестно, кто открыл ей смысл проекта первым: что там, в письмах
Капитана?
– Не знаю, как ты, – сказал Увар, – а я в толк не возьму: кому и зачем это надо? Исцеления, золотые червонцы, подъем производства, американская мечта в форме кошелька – без смысла, цели и ценности…
Все какие-то клочки, разрозненные темы, осколки, все само по себе.
Где связь? Заказчик этот, случаем, того – не болен?
Что ж, увидеть общую картину без кода, без ключа и впрямь было непросто.
– Нет, вид у него вполне здоровый. Просто человек с причудами. -
Я на миг задумался. – Он на бирже играет. Там все зыбко: малейший слух – и акции посыпались. Или наоборот. Он после твоих чудесных исцелений на фармацевтике, может, состояние сколотил. Ну или конкурента без штанов оставил…
– Значит, его разум тоже мечется в поисках наживы?
Разговор надо было уводить от Капитана в сторону.
– Ну а ты? – Я ошкурил мандарин и разобрал его на дольки – их оказалось восемь. – Ты ведь и сам продаешь перо за деньги.
– У меня другая цель. – Увар сложил руки на гладком брюшке и мечтательно посмотрел в потолок. – Кто-то хочет заработать, чтобы стать обеспеченным, а я хочу заработать, чтобы стать беспечным.
Добившись своего, первые, как и положено идиотам, становятся обывателями, а вторые – люди талантливые или одержимые какими-нибудь тараканами, вроде нас с тобой, – перестают торговать собственной жизнью, бросают поденщину и на полных парах устремляются к главному.
В своем, конечно, масштабе. Ты, – Увар посмотрел на меня взглядом заправского провидца, – появись у тебя в достатке деньги, небось, без конца колесил бы с сачком по свету и завел бы себе инсектарий.
Разве не так?
В проницательности Увара сомневаться не приходилось, но догадка относительно моих устремлений не требовала ни особого воображения, ни умения читать чужие грезы.
– А что бы делал ты?
– Я… – Увар опять вперил взор в потолок. – Я бы затеял что-нибудь такое… невозможное. Совсем невозможное. Ведь воплощенное желание – это неизменно скука, пошлость и разочарование. Желать невозможного – единственно достойное занятие. Бессилие придает жизни вкус. Пускай мир вокруг скругляет острые углы, заботится о здоровом пищеварении и бреет газоны, я буду стоять посреди все тот же – гордый и непреклонный в своем чудесном бессилии.
А говорят, будто Гоголь еще в первой половине девятнадцатого века составил стройный и едва ли не исчерпывающий каталог русских характеров, находчиво озаглавив его “Мертвые души”. Как бы не так!
Хотя – сомнений нет – и то, что сделано, – прекрасно. Взять хоть
Ноздрева. Или Чичикова. Или Манилова с Собакевичем… Они великолепны!
Их есть за что любить. Гоголю просто внушили, будто он пишет сатиру, а на самом деле он писал то, что писал, – поэму.
“Что же получается? – подумал я про Увара. – Отказ от лучшего ради недостижимого?” Вот именно: получается, Капитан – это как бы Увар, начавший жить по мечте. И вместе с тем это антитеза Патроклу
Огранщику, копилке сбывшихся стремлений, с его отказом от покорения небес. Боже, как причудлива Россия! Сколько в ней всего!..
Между тем при внутренней тяге к невозможному и презрении к будничным острым углам домашний быт Увара был налажен исключительным образом, во всех необходимых – а порой излишних – мелочах. Не в смысле безупречности границ пространства (здесь как раз царил полный порядок: паркет в комнатах рассохся, шашечки линолеума в коридоре повылетали из своих гнезд, на стенах и потолках нежно колыхалась паутина и красовались древние потеки), а в смысле там и сям развешанной живописи, фамильного собрания виниловых пластинок, пары неизменных сигов в холодильнике, всегда готовых нырнуть в коптильню, коллекции разнообразных приспособлений для выживания – от метательных ножей и различной кухонной утвари до автономной печки, работающей на солярке, – и, наконец, у него в заводе всегда был набор всяческих бутылок и бутылочек с алкогольными напитками весьма пристойного качества.