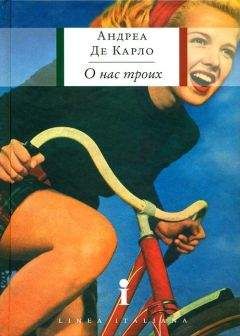— Ну что? Не так уж все и плохо, а?
— Могло быть гораздо хуже, — сказал я.
— Видели, какие там аппетитные девочки? — сказал Сеттимио своим сальным тоном, его маленькие черные глазки блестели в неоновом свете.
В нас троих еще бурлил восторг публики из Лавено, придавая легкость и грациозность нашим движениям, заставляя с вызовом поглядывать на других посетителей. Нам хотелось смеяться за их спиной, громко разговаривать, забыть о благоразумии и сдержанности; мы чувствовали себя так, словно сбывается наша с Марко заветная мечта — играть в рок-группе, в крови бушевал такой же адреналин.
Но даже сейчас, в такой удобный момент, я не смог сказать Марко про Мизию. Каждый раз, когда эта мысль всплывала в моем мозгу, я понимал, что бессилен перед ней, чувствовал, что то ли не поспеваю за событиями, то ли забегаю вперед, что я слишком в них замешан, слишком рассеян, слишком виноват, слишком безответствен.
Вечером двадцать первого числа Мизия позвонила мне напомнить, что я свидетель на ее свадьбе и что мы встречаемся завтра утром в парке перед муниципалитетом. Я сказал, что только что обещал Марко еще раз съездить с ним в Лавено, на закрытие фестиваля. Мизию, казалось, нисколько не волновало, как зрители приняли фильм; она сказала:
— Там дела-то всего на пять минут, ты сразу освободишься. Только вечером обязательно приходи праздновать.
Я начал было отнекиваться, потому что до сих пор ничего не сказал Марко и чувствовал себя ужасно неудобно, и еще потому, что плохо понимал, каким образом в один вечер сумею попасть сразу и на фестиваль, и на свадьбу. Я сказал:
— Какой из меня свидетель, у меня даже костюма приличного нет.
— Не нужен тебе никакой костюм, приходи в чем есть. Это моя свадьба, черт возьми, — возразила Мизия.
Так что утром я натянул свой единственный пиджак, — подержанный американский смокинг из какой-то синтетической ткани переливчато-зеленого цвета, от одного его вида я обливался потом, — охряно-желтую рубашку без воротника и испанские сапоги, до того теплые, что пришлось бежать обратно домой и переобуваться в кеды, почти продранные на мыске, а потом прыгать в машину и мчаться как угорелому, гнать через центр, почти не глядя на светофоры и задние фары автомобилей, чуть не сбив священника, задев автобус, нарвавшись на постового, который принялся истерически свистеть мне вслед и махать руками.
Подъехав к муниципалитету, я увидел группку людей, нервно озиравшихся по сторонам, и среди них Мизию; кто был Риккардо, ее жених, я не понял. Я припарковал свой «фиат» чуть поодаль, на другой стороне улицы, и помчался к ним, мокрый насквозь, пропахший выхлопными газами, с прилипшими ко лбу волосами и в синтетическом переливчатом пиджаке, раскаленном как духовка.
Мизия, возбужденная и сияющая, была одета в светлый приталенный костюм по фигуре, волосы собраны в аккуратный пучок, от которого у меня больно сжалось сердце.
— Ливио, ура! — воскликнула она с неподдельной радостью; мы обнялись и расцеловались, я старался не перепачкать ее своим потом, но у нее у самой были мокрые ладони.
Она представила меня своему без пяти минут мужу — это он, не отрываясь, разглядывал меня, пока я еще только высматривал его среди гостей: высокий и статный, с бородой и решительным взглядом, в неброском костюме; наверное, Мизия подстраивалась под его стиль, когда решала, что надеть. Он пожал мне руку, и было видно, что Мизия ему обо мне много рассказывала, но что именно, я не понял: он сказал «Очень, очень приятно», но в глазах его мелькнула подозрительность. У него был сухой, глуховатый голос, полный той же уверенности, что была написана на его лице и ощущалась в каждом движении; рядом с Мизией он показался мне невероятно старым, невероятно хладнокровным и ограниченным, невероятно гордым и к тому же ревнивым.
Мизия взяла меня под руку, будто не хотела слишком долго оставлять во власти скептических мыслей; она представила меня очень бледной костлявой женщине, матери Риккардо, и своей сестре Астре, с которой мы уже были знакомы, и брату Пьеро, который так пыжился в своем пиджаке и галстуке, словно старался произвести благоприятное впечатление на присяжных. Еще там был младший брат Риккардо, и его свидетель, такой же сухой и правильный, как и сам жених, и какой-то тип лет пятидесяти пяти, с сильной проседью в когда-то русых волосах, который сердито вышагивал взад-вперед, поглядывал на часы, и цедил сквозь зубы: «Ну и? Где ее черти носят?»
Мизия взяла его за руку и подвела ко мне:
— Это Ливио, а это мой отец.
Отец Мизии поздоровался со мной без особой радости и сказал дочери:
— Твою мать могила исправит, какая была всегда, такой и останется. Вот чем она сейчас так занята, хотел бы я знать? Неужели хоть сегодня не могла обойтись без своих выкрутасов?
Он был похож на большого ребенка, для которого нет ничего важнее своих прихотей, ему было глубоко наплевать и на происходящее, и на счастье собственной дочери, и на присутствие других людей. Мизия, наверно, давно к этому привыкла, но мне все равно больно было смотреть, как она неловко улыбается гостям и разводит руками, чтобы сгладить впечатление от раздражительности отца, как она смотрит на дорогу — не едет ли мать. Через несколько минут она сказала:
— Ладно, пойдемте, она нас догонит.
— Нет, мышонок, об этом не может быть и речи, — возразил ее без пяти минут муж Риккардо. — Мы подождем.
И мне подумалось — какая нелепость, еще пару месяцев назад этот человек вообще ее не знал, а теперь говорит с ней покровительственным тоном, называет ее мышонком, и она не злится и не иронизирует, а, наоборот, улыбается ему и согласно кивает. Я спрашивал себя, как такое возможно и почему, что произошло в непредсказуемой голове Мизии и в ее сердце, что за подспудные течения вырвались на поверхность в человеке, которого я, казалось, так близко знал.
В эту самую минуту к нам подъехал обшарпанный красный фургончик, и из него появилась мать Мизии, облаченная в тунику в индийском стиле; ее глаза сияли таким светом, что это было видно за полтора десятка метров. Отец Мизии, стоявший на бордюре, ворчливо заметил:
— Еще пять минут, и твоя дочь бы вышла замуж без тебя! И всем бы было лучше!
Мать Мизии его не слушала; она обняла дочь, сказала:
— Мизи, Мизи, какая ты молодчина!
Мизия представила ее Риккардо, матери Риккардо и всем нам, тесной группкой двигавшимся к дверям муниципалитета; и ее мать тоже показалась мне ребенком, хрупкой и капризной девочкой, чья неземная отрешенность и горящий взгляд прекрасно дополняли сугубый рационализм, практичность и нетерпимость отца. Мизия попыталась развести их в разные стороны и подтолкнула к двери:
— Все, хватит, не сегодня, пожалуйста. У меня все-таки свадьба.
Мы поднимались по лестнице, отец Мизии все еще сердито ворчал себе под нос, ее брат Пьеро изображал святую невинность, ее сестра Астра строила глазки брату Риккардо и его свидетелю. Мать Риккардо время от времени пыталась поддержать разговор, робко произносила какую-нибудь любезность, но на нее никто не обращал внимания; Риккардо говорил своим бесцветным голосом:
— Ничего страшного не случилось.
Когда мы поднялись наверх, Мизия тронула меня за плечо и сказала шепотом:
— Чудо, а не семейка, а?
— Да уж, — отозвался я, с ужасом подумав, что, возможно, еще и по этой причине она выходит замуж за человека, настолько непохожего на нее.
А потом мы стояли в зале бракосочетаний, я по левую руку от Мизии, второй свидетель по правую руку от Риккардо, и представитель муниципалитета с трехцветной лентой на груди зачитывал нам несколько страниц из гражданского кодекса, и его монотонный, как у экскурсовода, голос гулко отдавался под сводами. Я стоял, чувствуя себя в самом сердце событий, а еще словно в фильме, в котором вот-вот должно произойти что-то непоправимое, но в последнюю минуту откуда-то извне, или изнутри, приходит спасение и все кончается хорошо, к великому облегчению зрителей. Я по-прежнему не спускал глаз с Мизии, ждал, а вдруг выражение ее лица изменится, поглядывал на дверь, а вдруг вбежит Марко и крикнет, что свадьбы не будет, и схватит Мизию в охапку, и увезет ее на край света.
Но Марко не знал о свадьбе, потому что я ему ничего не сказал, и лицо Мизии оставалось прежним; все прошло гораздо быстрее, чем я думал, и уже через несколько минут прозвучали главные слова, и наступил черед обмена кольцами, счастливых взглядов, улыбок, поцелуя молодоженов; все было кончено. Мы вышли в коридор; у меня пересохло во рту и кровь застыла в жилах, я словно присутствовал при смертной казни или публичном самоубийстве.
Я зашел перекусить к бабушке, она спросила:
— На личном фронте не ладится?