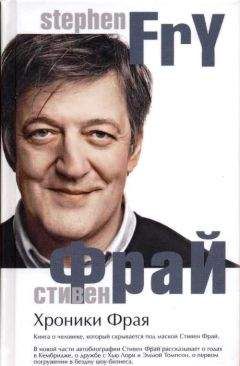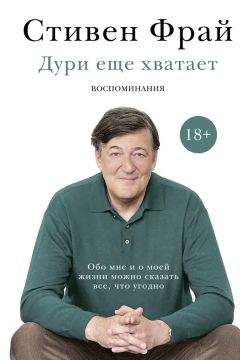Он по-прежнему слал открытки Морин и Куини, сообщая им о своем продвижении, и иногда писал девушке с автозаправки. По совету путеводителя по Великобритании Гарольд посетил музей обуви в Стрите и по пути заглянул в магазинчик в Кларкс-Вилидж, хотя был твердо убежден, что нехорошо бросать свои тапочки для парусного спорта, если уже проделал в них такой путь. В Уэллсе он купил для Куини розовый кварц — подвеску на окно, а для Морин — карандаш, вырезанный из ивового прутика. Несколько милых представительниц «Женского института»[17] убеждали его купить бисквит «мадера», но Гарольд их не послушал и выбрал вместо него берет ручной вязки того самого коричневого оттенка, который нравился Куини. Затем он зашел в кафедральный собор и посидел там в умиротворяющих лучах света, льющегося из-под купола, словно вода. Гарольд напомнил себе, что столетия назад люди строили церкви, мосты и корабли и делали все это, если вдуматься, в порыве безумия и веры. Убедившись, что никто не смотрит, он опустился на колени и попросил поберечь тех, с кем он успел познакомиться в походе, и тех, с кем ему только предстоит встретиться. Для себя он пожелал достаточно воли, чтобы продолжать путь. Заодно попросил прощения за свое неверие.
На дороге ему попадались клерки, собачники, шопоголики, дети, спешащие в школу, мамы с колясками, ходоки вроде него самого, а также несколько туристических групп. Встретился налоговый инспектор, он же друид, не носивший обуви вот уже десять лет. Гарольд разговорился с молодой женщиной, разыскивавшей своего настоящего отца, потом со священником, сознавшимся ему, что он любит болтать во время мессы, с несколькими спортсменами, готовившимися к марафону, и с итальянцем — владельцем поющего попугая. Часть дня он провел с «белой» колдуньей из Гластонбери и с бездомным бродягой, пропившим свой дом, с четырьмя велосипедистами, разыскивавшими трассу М-5, и с матерью шестерых детей, доверившей ему по секрету, что она не и подозревала, сколько в этой жизни одиночества. Гарольд шел с ними всеми какое-то время и слушал их исповеди. Он никого не осуждал, хотя по мере того, как дни текли за днями, он начинал путать беседы и места и уже не мог припомнить, ходил ли налоговый инспектор босиком или с попугаем на плече. Впрочем, это уже не имело значения. Гарольд вдруг постиг, что его переполняет восторгом и нежностью не что иное, как незначительность его случайных попутчиков. И их одиночество тоже. Мир был населен людьми, привыкшими идти по жизни, просто передвигая ноги, поэтому, возможно, сама жизнь часто представлялась им заурядной оттого только, что они слишком устали от однообразия этого процесса. Теперь, сталкиваясь с кем бы то ни было на пути, Гарольд лишний раз убеждался, что все люди одинаковы и по-своему уникальны — в этом и состоит парадокс человеческого существования.
Он шел вперед так уверенно, словно всю жизнь только и ждал, чтобы встать со своего кресла.
Морин по телефону сообщила ему, что перебралась из гостевой комнаты в семейную спальню. Гарольд столько лет спал в одиночестве, что поначалу удивился, а потом обрадовался, потому что их общая спальня была просторнее и гораздо симпатичнее, к тому же расположена по фасаду дома, и из нее открывался живописный вид на весь Кингсбридж. Однако ему пришло в голову, что такой переезд мог означать решение Морин перенести его собственные вещи в гостевую комнату.
Он вспомнил, как часто ему доводилось бросать взгляд на ее закрытую дверь, зная, что Морин добровольно выслала себя далеко за пределы его досягаемости. Иногда он касался дверной ручки, словно это была одушевленная часть самой Морин.
Из телефонной тишины до него донесся ее голос:
— Я вспоминала, как мы с тобой впервые познакомились.
— Что, прости?
— На танцах в Вуличе. Ты коснулся моей шеи. И пошутил. Мы потом смеялись до слез.
Гарольд наморщил лоб, стараясь представить себе эту картину. Сам танец он запомнил, но помимо него — лишь то, какой прекрасной ему показалась тогда Морин и какой изящной. Он отплясывал там, как болван, и еще у него перед глазами стояли ее длинные темные локоны, бархатисто обрамлявшие ей лицо. Но чтобы он набрался смелости, пробрался к ней через переполненный зал и завел разговор — такое казалось совершенно невероятным. Еще менее правдоподобным ему казалось то, что он смог рассмешить ее до слез. Гарольду подумалось, уж не путает ли его Морин с кем-нибудь.
Она сказала:
— Ладно, я тебя, наверное, задерживаю. Знаю, тебе надо торопиться.
Она говорила с ним тем же голосом, что и с врачом, когда хотела уверить его, что не хочет причинять лишнего беспокойства. А потом Морин произнесла:
— Мне бы так хотелось вспомнить, что ты сказал тогда на танцах. Это и вправду было ужасно смешно.
И повесила трубку.
Оставшуюся часть дня Гарольд предавался воспоминаниям, как у них с Морин все было в самом начале. Думал он о походах в кино и в «Лайонс Корнер Хаус»[18]. Ему еще ни разу не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь ел с такой деликатностью, измельчая пищу на крохотные кусочки, прежде чем отправить ее в рот. Уже тогда Гарольд начал откладывать средства на будущее. С утра он подрабатывал грузчиком на мусоровозе, а после обеда ездил в автобусе кондуктором. Дважды в неделю он по ночам дежурил в больнице, а в субботу отправлялся помогать в библиотеку. Иногда он так выматывался, что заползал там под полку и засыпал.
Морин в те дни пристрастилась садиться в автобус у своего дома и проезжала весь маршрут до конечной остановки. Гарольд выдавал билеты, подавал звонок водителю, но не видел вокруг ничего, кроме Морин, ее синего пальто, фарфорового личика и ярких зеленых глаз. Бывало, она ходила вместе с ним на дежурство в больницу, и, надраивая в коридорах полы, он думал только об одном: где она в этот момент и что она видит, убегая домой. Иногда Морин заскакивала к нему в библиотеку и изучала корешки кулинарных книг, а он следил за ней взглядом от стола регистратора, и у него кружилась голова от желания и недосыпа.
Гостей на свадьбу пригласили немного, и все были незнакомые, в перчатках и шляпах. Послали приглашение и отцу Гарольда, но, к облегчению жениха, его родитель не явился.
Оставшись наконец наедине со своей молодой женой в гостиничном номере, Гарольд смотрел, как она расстегивает пуговицы на платье. Ему отчаянно не терпелось прикоснуться к ней, но вместе с тем он изнемогал от страха. Сняв галстук и пиджак, который он одолжил у приятеля из автобусного парка, слегка короткий в рукавах, он снова взглянул на Морин — она сидела на кровати в одной комбинации. Она была так прекрасна, что Гарольд не смог этого вынести, удрал в ванную и заперся там.
«Гарольд, это из-за меня?» — спросила она через дверь, когда прошло полчаса.
Вспоминать подобные вещи было мучительно, особенно теперь, когда они отдалились от него на недоступное расстояние. Гарольд несколько раз сморгнул, стараясь прогнать видения, но они снова всплывали в его памяти.
Он шел сквозь города, наполненные голосами других людей, по дорогам, изрезавшим страну вдоль и поперек, и проникался эпизодами прошлого так, будто они случились только что. Иногда ему всерьез казалось, что он живет не в настоящем, а лишь в воспоминаниях. Он просматривал картины из своей жизни, словно зритель из-за стекла. Но, осознавая ошибки, несообразности, последствия неправильного выбора, он теперь уже не мог ничего изменить.
Гарольд вспомнил, что именно он снял трубку, когда сообщили о смерти матери Морин, внезапно скончавшейся всего через два месяца после тестя. Он тогда крепко сжал жену в объятиях, стараясь смягчить удар.
«Мы с тобой теперь совсем одни», — рыдала Морин.
Гарольд притронулся к выпуклости ее растущего чрева и пообещал, что все будет хорошо. Сказал, что будет заботиться о ней. И ничуть не кривил душой. Больше всего Гарольду хотелось, чтобы Морин была счастлива.
Она в те дни верила ему. И думала, что ей в жизни ничего не нужно, кроме Гарольда. Сам он тогда этого не знал, зато теперь понял. Отцовство явилось для него настоящим испытанием — и развенчанием. Гарольд задался вопросом, не лучше ли ему будет остаток жизни провести в гостевой комнате.
Гарольд все шел и шел на север, по направлению к Глостерширу, и его шаги порой были так легки, что давались без всяких усилий. Он даже забывал о том, как поднимать или опускать то правую, то левую ногу. Ходьба и все его тело были естественным продолжением уверенности, что Куини может выжить благодаря ему. В эти дни Гарольд преодолевал подъемы на холмы практически без труда; он предположил, что окреп физически.
Увиденное порой необычайно увлекало его; Гарольд пытался подыскивать наиболее точные эпитеты, чтобы передавать каждое изменение ландшафта, но бывало, что описания, как и его эпизодические попутчики, беспорядочно смешивались в голове. Хотя выпадали и такие дни, когда Гарольд не отдавал себе отчета ни в том, кто он, ни зачем он идет, ни куда. Он вообще ни о чем не думал, во всяком случае, в той мере, чтобы облекать мысли в слова. Он просто был. Плечами ощущал солнечное тепло, смотрел на бесшумное парение пустельги, отрывая пятку от земли, переносил с нее вес на подушечки пальцев, все снова и снова, и в этом заключалась суть.