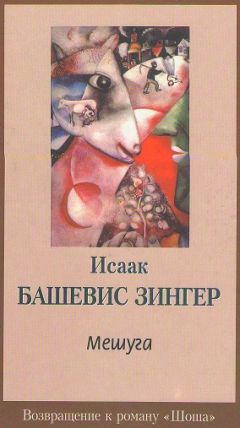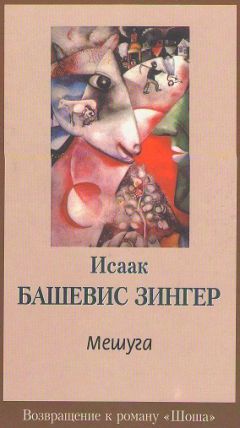Люди даже представить себе не могли, какие страдания ей пришлось испытать. Родившись в бедной семье, она рано осиротела и росла в доме злобной тетки. Когда она была еще совсем девочкой, ее изнасиловали. Разве можно было, глядя на эту красивую, изящно одетую женщину с ангельским лицом, догадаться, что она пережила? Мойшеле встал.
— Я пошел.
— Куда?
— Тебя не касается.
Эсфирь ничего не ответила. Мойшеле отправился в свою комнату одеваться.
Мойшеле надел пальто на меху, глубокие галоши, похожие на дамские ботики, и плюшевую кепку с ушами. На свои маленькие ручки он натянул перчатки. Он вышел из квартиры и, пройдя по коридору, подошел к лифту. Ключ от лифта был только у него, законного домовладельца. В лифте он нажал кнопку, и маленькая кабина поехала вниз. Он до сих пор испытывал какое-то мальчишеское удовольствие от этих поездок на лифте. Выйдя из подъезда, он оглянулся: все это светящееся пятиэтажное здание вместе с квадратным внутренним двориком принадлежало ему, было его частной собственностью. Мойшеле не раз приходило в голову, что границы его владений по закону простираются вверх до самого неба и вниз до глубочайших недр земли. Если бы он захотел и сумел раздобыть необходимые средства, он бы мог построить небоскреб в пятьдесят этажей, как в Америке, или прокопать скважину до самого земного ядра. Мойшеле, конечно, понимал, что все это только пустые фантазии, но отчего бы не помечтать? Он, как школьник, обожал фантазировать.
Мойшеле вышел на улицу. Сразу же мороз схватил его за нос, принялся щипать и кусать. Он словно немного опьянел, глаза наполнились слезами. Улица, на которой он стоял, всегда была одной из самых красивых в Варшаве, но снег сделал ее сверхъестественно прекрасной. Обледенелые ветки деревьев поблескивали в лунном свете, как огромные хрустальные люстры. Тротуар был словно усыпан драгоценными камнями, переливающимися всеми цветами радуги. Фонари стояли в снежных шапочках и ореоле цветной дымки. Мойшеле сделал глубокий вдох. Ему захотелось подурачиться, как в детстве: например, закричать на всю улицу, чтобы услышать эхо. Он сошел с тротуара и, разбежавшись, заскользил по льду над сточным желобом. Затем снова вернулся на тротуар. Что же, мысленно утешал он себя, конечно, жизнь могла бы сложиться лучше, но, в конце концов, все не так уж плохо. Несмотря ни на что, Эсфирь все-таки не чья-нибудь, а его жена. Как бы там ни было, по ночам она приходит в его спальню. За деньгами ей тоже приходится обращаться к нему. Мойшеле погладил себя по карману, в котором лежал кожаный бумажник, и нащупал в жилетке золотые часы с семнадцатью камнями и тремя крышечками. Лицо стыло, но по телу циркулировало тепло, как бывает у тех, кто хорошо питается, красиво одевается, имеет много денег.
Пусть Эсфирь развлекается, думал он. Мы не молодеем. Рано или поздно ей это надоест. Он подошел к кафе, в котором был телефон, но заходить не стал. Ему не хотелось говорить на идише в помещении, полном поляков. С другой стороны, он не собирался — даже если бы его знание языка позволяло — говорить с Кувой по-польски. Мойшеле наклонился и зачерпнул горсть снега. Потом поглядел на небо, усеянное звездами. Да, Солнечная система — на месте, над ним светились планеты, иные из них даже больше Земли. На некоторых, как считают ученые, может быть, тоже живут люди. Но даже если это так, кому там за миллионы световых лет отсюда есть дело, что некто по имени Эсфирь выставляет себя полной дурой в отношениях с художником Кувой? Даже если, как утверждают, у них роман? В масштабах Вселенной все мы мухи, не более.
Задумавшись, Мойшеле не заметил, как оказался возле мастерской Кувы, словно ноги сами привели его туда. Скользнув взглядом по светящимся окнам, он различил сквозь снежную дымку слабый свет в мансарде художника. Значит, он дома. Зайду и поговорю с ним, решил Мойшеле.
Лифта в здании не было, и Мойшеле пришлось подниматься на пятый этаж пешком. Перед дверью Кувы он помедлил, чтобы стряхнуть снег с ботинок и с пальто. «Только бы он был один», — молился Мойшеле. Собрав все свое мужество, он нажал шопку звонка. Сразу же послышались шаги; дверь аспахнулась, и он увидел Куву, высокого, стройного человека с узким лицом, темными глазами, тонким носом и вытянутым подбородком. Его черные волосы вились, как у цыгана. В руке Кувы были палитра и кисть. Одет он был в белую блузу, перемазанную, как передник мясника. Мойшеле испугался, что Кува захлопнет дверь у него перед носом, но художник улыбнулся, обнажив кривые зубы.
— Смотрите-ка, кто к нам пожаловал. Прошу.
— Я просто шел мимо, — пробормотал Мойшеле, входя в мастерскую. «Слава Богу, — подумал он, — гостей нет».
Кува был не только живописцем, но еще и скульптором. Всюду, как прожектора, горели электрические лампы. В их резком свете белели женские фигуры — одни были завернуты в мешковину, другие стояли как есть, совершенно голые. Мастерская Кувы неизменно напоминала Мойшеле какой-то таинственный древний храм. А сам Кува, расхаживающий между своими скульптурами, — верховного жреца неведомого языческого культа. В мастерской было холодно, воняло масляной краской и скипидаром. У Мойшеле защипало в носу, и он чихнул.
— Я просто шел мимо, — повторил он, — и увидел свет в вашем окне… Все-таки мы не первый день знакомы…
Он осекся. Кува понимающе кивнул, словно предвидел именно такой поворот событий. Улыбка, игравшая у него на губах, была, по обыкновению, немного горькой, что всегда удивляло Мойшеле.
— Как Эсфирь?
— Спасибо, неважно, — ответил Мойшеле сам не зная, что он скажет в следующую минуту. — Ей было бы намного лучше, если бы… Ведь привязываешься к людям, дружба — дело серьезное. Как это говорится? Кровь — не вода. Какой-то пустяшный срыв — и сразу конец. Ну разве так можно? Ведь мы же цивилизованные люди. Она же вся извелась. Целыми днями лежит на диване. Ничего не ест. А если она — не дай Бог — заболеет? Что будет хорошего? Ну сказала она какую резкость… Ну и что? Ведь это не со зла. Она ведь только добра вам желает. Даже теперь она никому не позволяет ничего говорить против вас или вашего таланта…
Мойшеле снова осекся.
Кува пожал плечами:
— Это она вас прислала?
— Какое это имеет значение? Да и вообще, разве меня нужно «присылать»? Что, у меня самого глаз нет, что ли? Тут ведь чувство! Чем больше с ним борешься, тем оно сильнее. Сам мучаешься и других начинаешь мучить. Психология…
Мойшеле даже вспотел к концу своей тирады.
— Ну и что вы предлагаете?
— Приходите к нам. Она так обрадуется, так удивится. Это вернет ее к жизни. Зачем ссориться, тем более из-за пустяка? Даже муж с женой, бывает, ругаются, но разве они немедленно бегут разводиться? Мы же современные люди!
— Хорошо, как-нибудь зайду.
— А почему не сейчас? Она весь день не ела, с самого утра. Если вы придете, все пойдет по-другому Понимаете… Мне тяжело это говорить, но когда она в таком состоянии, с ней просто невыносимо. Это она только с виду гордая, а внутри ужасно ранимая. Чувствительная, сверхчувствительная. Она искренне обо всем сожалеет, но из гордости скрывает это и только сильнее мучается. Уже поздно. На сегодня вы достаточно поработали. Вам нужно немного отдохнуть, отвлечься. Так и для вашего творчества будет лучше.
— Вы и камень уговорите, — сказал Кува, словно обращаясь к кому-то через голову Мойшеле. Затем ушел в заднюю комнату. Мойшеле, сгорая со стыда, остался ждать среди скульптур. Ему даже почудилось на миг, что эти глиняные фигуры все понимают и видят его позор. Только бы она не прогнала его, молился Мойшеле. С женщинами никогда ничего не поймешь.
Кува вернулся. Вместо рабочей блузы на нем была теперь куртка с меховым воротником, широкополая шляпа и сапоги. Он был похож на аристократа и на уличного хулигана одновременно.
— Пошли, — прорычал он, выключив свет.
Выходя, Мойшеле споткнулся о порог и чуть не упал. Кува вышел следом и повесил на дверь замок. По лестнице спускались молча. А когда вышли на улицу, Кува так быстро зашагал вперед на своих длинных ногах, что Мойшеле пришлось догонять его чуть ли не бегом. Вдруг Кува остановился.
— Учитывая сложившуюся ситуацию, — сказал он, — я думаю, нам правильнее было бы поговорить без свидетелей.
Мойшеле покраснел.
— Зачем? Поверьте, я вам не помешаю.
— Нам правильнее было бы остаться наедине, — повторил Кува. Он говорил с Мойшеле, как строгий взрослый с ребенком. Такого Мойшеле не ожидал.
— Но куда же я сейчас пойду? На улице мороз.
— Сходите в оперу. Еще не поздно.
— В оперу? Одному?
— А что тут такого? Или почитайте газеты в кафе.
— Уверяю вас, я не помешаю.
— Приходите попозже. Дайте нам побыть вдвоем по крайней мере часа два. Есть некоторые проблемы, которые можно решить только между собой, — продолжал настаивать Кува, обращаясь к Мойшеле и пустынным улицам.