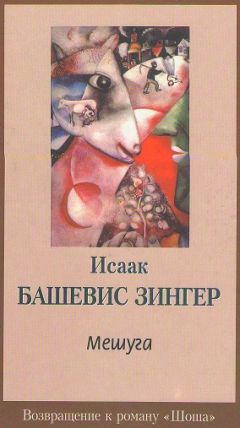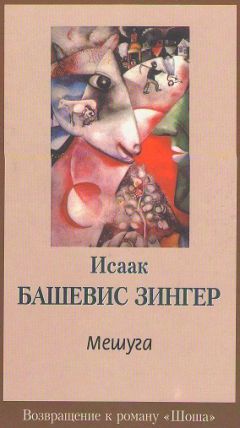МОЙШЕЛЕ
Морозный зимний день уступал место сумеркам. Снег, падавший с самого утра густыми крупными хлопьями, завалил карнизы и балконы в доме напротив. Печные дымы, слишком густые и тяжелые, чтобы подниматься вверх, стлались по крышам, как прокопченные покрывала. День как бы замер в нерешительности, словно прикидывая, можно ли еще что-нибудь успеть до темноты, или уже слишком поздно. Вдруг — точно повернули выключатель свет погас, в одно мгновение наступил вечер, день было уже не вернуть.
Удлинившиеся тени тянулись по золоченым изразцам печи, картинам, роялю, креслам и коврам. Маятник каминных часов, доставшихся в наследство от реба Цодека Уолдена, качался медленно и неохотно, словно собираясь остановиться. В большом кресле, утвердив свои короткие ручки на подлокотниках из слоновой кости, а маленькие ступни в мягких домашних тапочках на скамеечке для ног, сидел Мойшеле Уолден. Он смотрел на свою жену Эсфирь, лежащую на диване у противоположной стены комнаты.
Мойшеле был маленького роста, с треугольным лицом, тонким носом и острым подбородком. Волосы, обрамляющие его лысину, падали вниз длинными прямыми прядями, как у ребенка, которого только что выкупали. Хотя после смерти отца Мойшеле стал ходить в современной одежде и побрился, он по привычке то и дело пощипывал подбородок и тянулся к вискам в поисках несуществующих пейсов. В сумерках ему всегда становилось грустно. Вот и сейчас ему припомнилась вечерняя молитва, которую евреи поют на закате, и молитва, которую на исходе Шаббата читала его мать: «Бог Авраама, Бог Исаака и Иакова…» Хотя Мойшеле уже давно вырос и даже женился, он все равно чувствовал себя сиротой. Какая-то часть его души все еще оплакивала родителей и читала по ним Каддиш. Он представил себе их могилы, заваленные снегом по самые надгробья. Что-то делают сейчас под землей мать с отцом? Знают ли они, что с ним происходит? Думают ли о нем? Может быть, им холодно? Мойшеле поплотнее укутался в шелковый халат и поднял ворот. Он легко простужался.
В сгущающихся сумерках его глаза казались огромными и сияющими. Он смотрел на Эсфирь с неподдельным удивлением, как будто увидел что-то невероятное. В полумраке ее лицо словно светилось изнутри. Зарево заката за облаками играло в ее волосах. Эсфирь зевнула и покачала головой, размышляя о своей непростой судьбе. Ее халат распахнулся, обнажив ослепительную белизну ее кожи. В отличие от Мойшеле, вечно боящегося простуды, она любила расхаживать по дому полуодетая даже зимой.
Запахнись, ведь сейчас эпидемия гриппа, хотел было сказать Мойшеле, но передумал. Какой смысл? Она нарочно сделает наоборот. После ссоры с Кувой она совершенно ушла в себя: постоянно думала о чем-то — расспрашивать он не решался. Время от времени он пробовал ее урезонить, но ее единственным ответом было: «Отвяжись!» «Когда же ей надоест злиться? — недоумевал Мойшеле. — Ведь так недолго и с ума сойти, упаси Бог, конечно».
В разрыве Эсфири с художником Кувой Мойшеле не играл никакой роли. В этом деле у него не было права голоса. Хотя, когда он женился на Эсфири, он был богат и происходил из хорошей семьи, а Эсфирь была практически нищей и сиротой, она захватила первенство с самого начала. Он уступал ей во всем, потакал каждой ее прихоти. Она таскала его за собой в бесконечные путешествия за границу, тратила тысячи на бессмысленные безделушки, приглашала в дом людей, которых он терпеть не мог. Угождая жене, Мойшеле промотал все свое наследство. Теперь у него остался только один многоквартирный дом, где они и жили.
Что касается романа Эсфири с художником, то разногласия начались с первой же встречи. Вскоре легкие размолвки влюбленных переросли в серьезные ссоры. Она обнимала его, а через минуту осыпала оскорблениями. Или звонила и приглашала прийти, а сама запиралась в своей комнате, оставляя его проводить время с Мойшеле. Их последняя ссора произошла из-за какого-то совершеннейшего пустяка.
И все-таки было ясно, что забыть Куву Эсфирь тоже не может. Она целыми днями бесцельно бродила по дому. Всю ночь напролет в ее спальне горел свет — она читала, а на следующий день до обеда спала, словно одурманенная наркотиком. Она почти совсем ничего не ела и с каждым днем все сильнее худела. Мойшеле много раз уговаривал её перестать выказывать характер и попросить Куву вернуться, но она и слушать об этом не хотела.
— Попросить его вернуться? Ни за что! Да хоть бы он и вовсе сдох, ничтожество!
— Ох, упрямая, упрямая, — бормотал Мойшеле.
Но что же будет дальше? Ведь только когда Эсфирь была спокойна и довольна, Мойшеле мог заниматься своими делами: разговаривать по телефону с бухгалтером Лазарем, писать письма, читать финансовую полосу «Курьера варшавского». Когда же Эсфирь была в расстроенных чувствах, он ничего не мог делать: ни спать, ни есть; на коже появлялась сыпь, и все тело нестерпимо зудело; постоянно ныло под ложечкой, и он едва сдерживал слезы.
— Ай-яй-яй, — задумчиво прошептал Мойшеле, — она просто ноги об меня вытирает. А что я могу поделать? Она не виновата, так уж она устроена. Не может не влюбляться. Это как болезнь.
Мойшеле поглядел в окно и увидел, что наступил вечер. Уже зажгли бледно-голубые шары уличных фонарей. Снегопад прекратился, и лишь иногда одинокая снежинка, трепеща, слетала вниз мимо освещенных окон. Город тонул в серебристо-лиловой мгле, какая — как говорят — бывает в тех северных землях, где ночь длится месяцами. Стояла невероятная, почти осязаемая тишина. Неужели уже наступила Ханука? Чтобы сделать Эсфири приятное, Мойшеле развил в себе интерес к антиквариату и стал покровителем искусства. Он собрал прекрасную коллекцию ханукальных светильников, которые так и стояли без употребления, поскольку Мойшеле давно сделался атеистом.
— Запахни халат, Эсфирь! — не выдержал он наконец. — Ведь холодно.
— Мне не холодно.
— Эсфирь, хватит, пора положить этому конец! — Он сам не ожидал от себя такой храбрости.
— Ты опять за свое?
— Послушай, я тебе прямо скажу: это же бессмысленно! Если ты не можешь побороть свое чувство, надо покориться.
Эсфирь нетерпеливо передернула плечами:
— Что же, по-твоему, мне нужно сделать? В ноги ему упасть, что ли?
— Совсем нет. Просто позвони ему. Грех быть такой гордой. Он наверняка тоже мучается. Вы оба просто с ума сошли!
Голос Мойшеле окреп. То, что Эсфирь не оборвала его, придало ему уверенности. Эсфирь поплотнее укуталась в халат. В наступившей тишине громко заскрипели диванные пружины. Эсфирь тяжело вздохнула. Мойшеле испугался, что она закричит или даже запустит в него туфлей, но этого не случилось. Эсфирь продолжала ворочаться на диване, как человек, терзаемый бессонницей. Мойшеле, болезненно реагирующему на каждый скрип пружин, даже показалось, что дивану каким-то образом передалось беспокойство Эсфири.
— Не буду я ему звонить! — заявила Эсфирь, но каким-то неуверенным тоном.
— Тогда я сам ему позвоню!
— Что? Ты, конечно, можешь делать, что хочешь, но из моего дома ты ему звонить не будешь. — В голосе Эсфири зазвучала угроза. — Если ты такая тряпка, давай! Пресмыкайся, ползай перед ним на брюхе, как жалкий клоп!
Последнее оскорбление словно бы вырвалось у нее помимо воли. Эсфирь замерла. Мойшеле испытал боль, ведомую лишь тем, кто понапрасну жертвует собой. Никогда еще она не говорила с ним так жестоко.
«Ох, до чего же я докатился, — уныло подумал он. — Что бы сказала мама — мир ее праху?» Мойшеле словно прислушивался к собственному унижению.
— Ну все, хватит! — сказал он вслух, сам не зная, что имеет в виду: развод или самоубийство.
А дело было в том — и Мойшеле в глубине души это сознавал, — что он тоже соскучился по Куве. Он привык к его шуткам, анекдотам и бесконечным насмешкам над другими художниками, скульпторами и критиками. Неисправимый Кува всех передразнивал: писателей, преподавателей иврита, завсегдатаев вегетарианских ресторанов и великосветских дам, которые заказывали у него портреты и мраморные бюсты. Несколькими словами он мог нарисовать карикатуру. Он никого не щадил, но его общество почему-то всегда улучшало Мойшеле настроение. Бывало, Кува требовал коньяку, и вскоре Мойшеле уже пил вместе с ним. Кува обнимал Эсфирь у него на глазах, а Мойшеле, несмотря на сжигающую его ревность, охватывала необъяснимая радость. Кува не раз говорил ему, что он мазохист, но Мойшеле знал, что это не объяснение. Просто он любил Эсфирь гораздо больше самого себя. Когда ей было хорошо, ему — тоже. Когда она страдала, он страдал в десять, нет, в сто раз сильнее. Ее красота и постоянно снедающее ее чувство тревоги полностью лишили его собственной воли. Ее словно червь какой-то точил. Месяца не проходило, чтобы она не предпринимала очередной попытки покончить с собой: то пыталась отравиться, то повеситься, то пустить газ или выброситься из окна.