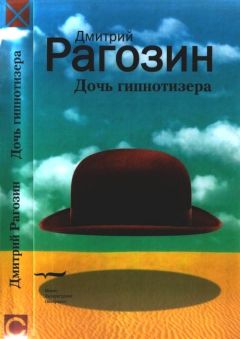«Жизнь автора, — спросил тогда Хромов, — разве не достойна того, чтобы войти в написанную им историю?»
«Да какая у меня жизнь! — замахал руками Успенский. — Я только летом и живу! Экскурсии, сны, гипнотизеры, вдохновение… В сентябре все кончится. Начнутся будни: черная доска, мел, тряпка, тридцать идиотов, высасывающих из меня смысл и радость. Я, надо тебе сказать, человек добросовестный. Если уж взялся учить, то отдаюсь весь целиком, ничего не оставляя для себя. Время уходит на упражнения и домашние задания. И не только потому, что для меня это единственный способ прокормить семью. Что-то во мне нуждается в этом бездарном приложении сил. Семья — только предлог, чтобы отдавать себя всего, без остатка, тому, что в душе я ненавижу, от чего меня воротит… История не дает мне покоя, не удовлетворяет. В ней нет содержания. Как будто переходишь из вагона в вагон, заглядываешь в купе, там — спят, там — режутся в карты, там обгладывают курицу…»
«А как же руины, боги?»
«Ну, это, — Успенский, грустно улыбаясь, пожал плечами, как будто сконфуженно, — это, так сказать, из другой оперы, об этом как-нибудь в другой раз».
Он окинул взглядом пыльные, изъеденные молью чучела:
«Боги — из области искусства, техники, а я сейчас говорю о природе. Моей природе. Чем дольше живешь, тем отчетливее испытываешь на себе власть дождя, солнца, тумана, камней, пауков, растений. Мое тело уже наполовину то, что ползет ему на смену. Я уже забыл, что такое простые человеческие чувства. Если хочешь о богах, признаюсь, что еженощно молю богов, чтобы они взяли меня раньше времени, до того, как в эту клетку вселятся пернатые и четвероногие».
«И как ты себе это представляешь?»
«А тут и представлять нечего. Вот я есть, и вот меня нет. Тебе когда-нибудь случалось включать и выключать лампочку?»
«А что будет с Авророй, с детьми, с этим домом, наконец? Надеешься, небось, забрать их с собой, мол, смерть — это всего лишь оборотная сторона жизни?»
«Да нет, думаю, как-нибудь справятся. А что до меня, тот, кого нет, можешь мне поверить, хочет только одного — отсутствовать, даже если отсутствие причиняет ему адские муки».
«Есть, нет — все это какая-то детская игра, палочка-выручалочка, крестики-нолики. Думаю, я одновременно есть, и меня нет, одновременно. И так будет всегда».
«Что ж, думать можно что угодно. Труднее поверить в придуманное, но и это возможно. Самое сложное — успокоиться на том, во что веришь, а успокоившись, жить так, как будто мир устроен в соответствии с твоими пожеланиями, по правилам: тут — ареопаг, там — невольничий рынок, здесь — гончарная мастерская, короче, концерт по заявкам трудящихся».
«Но почему не допустить, что желание — и есть сила, которая возвела то, что мы принимаем за окружающий нас мир. Это почти очевидно».
«Боюсь, ты ошибаешься. Мир не та книга, которую пишут, держась для вдохновения за половой орган. Мир — газета, где каждая статья написана впопыхах и которую, мельком пробежав глазами, используют, извиняюсь, по назначению. Здесь никого не заботит, что ты хочешь читать, тебя вынуждают хотеть то, что выгодно политической силе, готовой расплатиться с анонимным писакой живыми деньгами, добытыми преступным путем!»
«Да, да, я с тобой согласен», — подхватил Хромов, мстительно припоминая сломанного Делюкса.
То, что я услышал от Успенского тогда, думал Хромов сейчас, могло бы сделать из него трагическую фигуру, если бы он не стоял посреди круга, который сам же очертил. Да, звери, да, насекомые, да, растения, но при чем здесь природа, когда перед тобой притихший класс, не выучивший урока? Он слышал, что Успенский был учителем не только строгим, но и жестоким. На его уроках стояла полнейшая тишина. Он требовал беспрекословной дисциплины. Никто не смел не то что шепнуть на ухо соседу, но и чихнуть. Любой посторонний звук вызывал у него вспышки ярости. Как я его понимаю, думал Хромов, копаясь в книгах, лежащих на столе, — имея за плечами такое лето…
Сейчас, один, оглядывая стены, крапленные красными отсветами заката, он вдруг почувствовал, что в комнате что-то спрятано. Все, что его окружало, казалось, было предназначено для того, чтобы отвлечь внимание. Письменный стол с лампой, ящики, тяжело набитые газетными вырезками, блокнотами, огрызками карандашей, какой-то мусор, вековой хлам. Шкаф с папками. Картонные коробки с карточками. Горы бумаг, исписанных вдоль и поперек. Толстые книги с кончиками закладок. Большое чучело дрофы на деревянной подставке.
На столе среди мелко исписанных бумаг какие-то глиняные черепки. Счеты с потемневшими костяшками. Торчком фотография Авроры, по повороту головы, по пышным завоям прически и по смазанным ухищрениям ретуши наводящая на подозрения, что она была снята еще в прошлом веке и успела побывать в руках антиквара. Кожаная перчатка с налипшей оранжевой глиной. Баночка клея с намертво влипшей кисточкой. Старая пишущая машинка с отпечатками пальцев…
«Ага!»
Потревожив ворох пожелтевших, пропыленных листов, Хромов вытянул слегка помятый тетрадный листок, изрисованный детскими каракулями. Где-то я уже видел… Ну конечно, в саду санатория, на асфальтовой площадке, там, где сходятся три дорожки, рисунок мелом и кирпичом.
Не успел Хромов порадоваться находке, как взвизгнула калитка, послышались голоса Авроры («Чур я первая!») и Насти («Папы еще нет!»).
Хромов, сунув листок в карман, выскользнул из кабинета, проскочил в конец коридора и через боковую дверь благополучно покинул дом. Небо еще было светлым, но в саду уже собиралась тьма. Стрекотала цикада. Где-то за забором шумно текла вода.
Хромов осторожно выглянул за угол.
Хлопнула дверь. Прямоугольники света легли на клумбы. Звякнули кольца задвигаемых занавесок. Хромов выжидал, прижавшись спиной к нагретой за день стене. Сердце успокоилось, дыхание стало ровным.
Обогнув дом, он поднялся на крыльцо, громко постучал и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь.
Настя в вязаной безрукавке, в шароварах сидела на диване, обхватив тонкими руками кожаную подушку. Аврора круговым движением разрезала дыню. На ней было роскошное темно-малиновое вечернее платье.
«Хочешь?»
Хромов принял от нее заветренный полумесяц с бахромой плоских косточек.
«Мы были на представлении гипнотизера…»
Положив нож, Аврора облизнула палец. Абрис глубокого декольте выдавливал грудь, подхваченную узким, жестким лифом, стягивающим талию над вольно расходящимся каскадом пурпурных складок.
«Понравилось?»
Хромов посмотрел на Настю, ожидая, что девочка включится в разговор. Но Настя продолжала задумчиво мять кулачком кожаную подушку. Пришлось довериться Авроре. По ее словам, зрителям было представлено не совсем то, что они ожидали увидеть.
«Они были разочарованы?»
«Разочарованы? Нет… Скорее — встревожены, смущены».
Начать с того, что всех поразил внешний вид гипнотизера. Он появился на сцене в рыжем парике. Верхнюю часть лица скрывала маска. Пиджак был накинут на майку не первой свежести, заправленную в полосатые подштанники. Первые минуты казалось, он сам не знает, зачем вышел на сцену, что его привело под свет прожекторов. Он расхаживал вокруг беспорядочно расставленных стульев, не глядя в зал…
Аврора рассказывала, делая длинные паузы. Ее сильное, здоровое тело, крепко упакованное в пропотевший, подмятый от долгого сидения в зале темный пурпур, волновало Хромова так, что он едва сдерживал себя от непоправимой глупости.
Настя сидела с отсутствующим видом, ворсистая пустотелая былинка, хрупкая пипочка, ниточка, намотанная на мизинец, тонкое ситечко, сплошь — урон. Волосы двумя метелками загибались к щекам. Опущенные ресницы трепетали. Бесконечная вблизи смерти протяженность времени для поприща тела и исхода души. И учти гипнотизер, этот заезжий фигляр, только первый и не самый страшный из тех, кто будет ластиться, дразнить, разнимать. Спроси у Сапфиры, уже проронившей слово «опять». Им достались места в последнем ряду, пришлось весь вечер сидеть, пялясь в бинокль…
«Оставь подушку в покое, — резко сказала Аврора дочери, — она и так уже расходится по швам, надо подшить».
Конечно, стоя с надкушенным серпом дыни между девочкой и женщиной, Хромов уже был внутри литературы со всеми ее прелестями и изысканиями. Достаточно занести перо над бумагой, чтобы начать фразу, которая обессмертит не только руку, перо и бумагу, но и все то, что оказалось поблизости и, по правде говоря, в бессмертии не нуждается, даже наоборот, бежит как огня.
Какая узость! — готов был воскликнуть Хромов, но его восклицание не нашло бы отклика ни в девочке, ни в женщине. Поэтому он сосредоточился на полумесяце дыни, сделав из него своего рода минутный фетиш. А что? Чем не сладость! Если свидание назначено в другом месте, на другое время, остается, не дожидаясь и не сходя с места, звать на помощь сверхъестественные силы, и эти силы, кто бы мог подумать, съедобные, даже вкусные! Еще одна тема, еще одно упущение, призванное поддержать текст в его порочной чистоте и мнимом единстве.