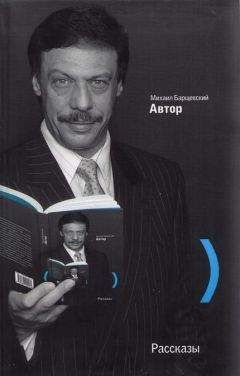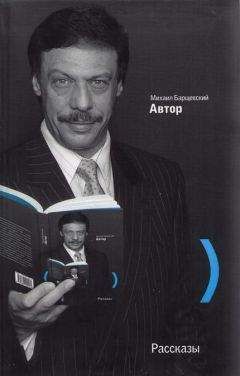Отведя душу, муж объяснил, что произошло. Оказывается, поехал он в некую губернию, по делу весьма сложному, имеющему отношение к милицейской коррупции. Поехал, дабы на месте разобраться с одной группой, почти открыто начавшей работать на местных бандитов. Министр же внутренних дел, желая наперед подмаслить курирующего прокурора, распорядился выделить «физическую защиту» семье Сорокина на время командировки. А исполнитель — замминистра, человек, пришедший из ОБХСС и вообще не ведавший, что такое оперативное сопровождение, — не поставил в известность ни его, Сорокина, ни «объекты».
В этот вечер Алевтина впервые заикнулась, что, может, мужу стоит уйти в коммерческие структуры, возглавить, например, службу безопасности какого-нибудь банка. О таких переходах она часто читала в газетах и знала, что материально они ничего не потеряют. Хотя, конечно, и сейчас хватало. Но довести свою мысль до конца ей резко расхотелось, когда она поймала взгляд мужа, не оставлявший сомнений в том, что поняла она его значение правильно.
Поздней осенью, где-то в середине ноября, стряслось в Березниках ЧП. Сколотившись в стаи, бродячие собаки, оставленные летними дачниками самой деревни и двух близлежащих огороднических кооперативов, подавили гусей и голубей Сорокина. Сам он узнал об этом лишь в субботу вечером, когда с двумя охранниками приехал отдышаться от городской суеты. Сеня, а они с Розой заколачивали дом на зиму, увидев подъезжающую машину Сорокина, вышел на улицу, перехватил Леонида Ильича перед его калиткой и стал рассуждать, как хорошо в деревне, что самое здесь важное — покой и свежий воздух. Что жизнь людская и вообще жизнь — конечны, он это как врач говорит, и хорошо, когда есть, что вспомнить. Воспоминания — это вообще то, чем живет человек после сорока, а до того лишь планами на будущее. И что расстраиваться нам, Леонид Ильич, в нашем возрасте вредно, а главное, бессмысленно. Сорокин никакой задней мысли у собеседника не заподозрил, поскольку Сеня вообще любил пофилософствовать, а сгущавшиеся сумерки, прохладная погода и кучи опавших листьев, видневшиеся то там, то тут, действительно выводили на философский лад любой разговор.
Подошла Роза. И вот тут Сорокин почуял что-то неладное. Причем неладное здорово. Розины глаза выдавали ее с головой. По ним можно было читать, как по открытой книге с крупным шрифтом. Прокурор даже удивлялся, ну как человек с таким открытым взглядом может оставаться на свободе? Ведь какую бы фразу она ни произносила, по глазам всегда ясно — верит она сама тому, что говорит, или лжет, сама того стесняясь. А когда она взяла его под руку и стала затаскивать на их участок, говоря, что на свою «фазенду» он всегда успеет, Сорокин понял, что точно что-то стряслось. Причем не у них, а у него. Поскольку Роза уже за разговором успела развернуть его лицом к своему дому и даже протащила на другую сторону улицы, Сорокину пришлось обернуться, чтобы еще раз убедиться — дом стоит на месте, пожаpa не было. Привычным профессиональным взглядом он сфотографировал собственный дом и, быстро проанализировав полученное фото, понял, что провода — на месте, решетки — на окнах, дверь закрыта, словом, на первый взгляд все в порядке.
— Ну-ка, погоди, — произнес Сорокин тоном, от которого Роза с Сеней вздрогнули. Да и сам Сорокин удивился — таким он себя привык слышать, когда говорил с подчиненными, причем сильно «просыпавшими», или с подследственными. Роза отшатнулась, а он, развернувшись, быстро пошел к себе в дом. Войдя на участок, он практически сразу понял, что произошло. Не было слышно ни гоготания гусей, ни, что гораздо важнее, родного, каждый раз встречавшего его, воркования голубей. Не заходя в дом, он рванул на голубятню и по сугробам перьев окончательно осознал масштабы беды, свалившейся на него.
— Мы их тут похоронили, — услышал он голос Сени.
— Вон там, у забора, — уточнила Роза. Сорокин не помнил, когда плакал последний раз. Не то чтобы плакал, а даже когда последний раз чувствовал набухание век или комок в горле. Но тут, увидев маленький холмик с воткнутыми в него тремя короткими хризантемами, понял, что сейчас заплачет. То ли от того, что его детской мечте пришел столь нежданный конец, то ли от того, что эти двое, в сущности, чужих ему человека так трогательно пытались смягчить удар.
— А почему три? — спросил почти механически Сорокин. — Полагается же нечетное число?
— Ну все-таки не люди, — замялся Сеня.
— Да нет, не в этом дело, — кинулась исправить бестактность мужа Роза. — Просто у нас принято на могилу класть нечетное количество цветов. — Ну откуда он может знать, подумала Роза, что у евреев вообще не принято класть на могилы цветы.
— А-а, — отозвался Сорокин.
Постояли несколько минут молча.
— Ну ладно, Леонид Ильич, мы пойдем к себе, а вы обещайте, что сразу, как... Ну сразу как разберетесь с делами, зайдете к нам, — сказала Роза.
— Да-да, конечно, — откликнулся Сорокин, обратив внимание, что впервые, может, не считая самой-самой первой встречи, Роза обратилась к нему по имени-отчеству, а не «Ильич» или «генерал-прокурор». — Да, конечно зайду.
Через двадцать минут Сорокин с бутылкой водки входил к соседям. Предложил выпить за закрытие дачного сезона. По его внешнему виду, по разговору, который завязался, никак нельзя было решить, что что-то случилось, что чем-то Сорокин расстроен. Только уже уходя, Сорокин попросил Розу:
— Вы найдите мне покупателей на дачу. Мне этим заниматься как-то не с руки. Мало ли чего потом скажут, мол, заставил купить. Ну их... Так что поищите среди своих знакомых или там риэлтеров наймите. Я оплачу.
Сеня ошарашенно смотрел то на него, то на жену.
— Да, Ильич, вы чего... — начал Сеня, но договорить не успел. Роза деловым тоном перебила:
— Хорошо, Ильич. Постараюсь.
Как Роза «старалась», понять через полгода стало нетрудно. Ни одного покупателя не нашлось. Открылся Сорокину Розин маневр к марту, когда он неожиданно сообразил, что не сказал Розе, а она сама и не спрашивала, за сколько он дачу продать хочет. Эта Розина хитрость была ему приятна, тем более что он искренне верил в соседское бескорыстное отношение к себе. Ну как не верить, если за четыре года — ну ни одной, даже самой пустячной просьбы от них не было. Он давно уже привык ощущать себя «нужником», поскольку всем окружающим хоть что-то, да было от него надо. Начиная с Алевтины и кончая личным шофером. Однажды Сеня намекнул, а может, и так просто сказал, что стрелять в детстве любил. Так Сорокин намека «не понял» и больше разговора на эту тему не было.
Вообще-то Сорокин уже успокоился и был рад, что покупателей нет. Все-таки дачу он любил не только из-за голубей. Поэтому, когда в конце апреля позвонил Сеня и позвал в субботу приехать к ним, отметить открытие сезона, Сорокин ответил, что приедет, но не к ним, а к себе, что у него своя есть крыша над головой. Но соседей, разумеется, навестит.
Когда Сорокин появился на террасе дома соседей, те искренне обрадовались и затеяли сразу веселый базар о последних новостях, как деревенских, так и «общефедерального» значения. Роза сыпала анекдотами, накопившимися за зиму, и разговора о прошлогоднем событии не возникало. Уже прилично выпив, Сорокин неожиданно заявил без всякой связи с тем, о чем шел разговор:
— А еще говорят, что евреи нация торговая. Что ж вы дачу-то мою продать не смогли?
— Так цена высока, а рынок сами видите какой. После семнадцатого августа, — полувсерьез, полушутя отозвалась раскрасневшаяся Роза.
— А вот и не сходится, — расхохотался Соколов. — Цену я вообще вам никакую не заказывал. Нехорошо обманывать генерал-прокурора.
— Правильно, — тут же отреагировала хозяйка, — как вы хотели ее продать, так я и продавала. Важно, что в итоге клиент доволен, — подытожила она.
Посидели, повыпивали еще с час. Вдруг Сорокин повернулся к Сене и предложил:
— Пошли, постреляем?
— Да вы чего, с пьяных глаз стрелять, — возмутилась Роза.
— Ничего, не привыкать, — отозвался Сорокин.
— Да я, ты ж знаешь, только спьяну все хорошо и делаю, — расхохотался Сеня. — Вот, например, на тебе женился.
Сорокин с Сеней ушли на прокурорский участок, где два охранника быстро развесили пустые банки и бутылки на той стороне забора, за которой начиналось поле и народу, соответственно, быть не могло.
Сорокин из семи патронов четыре положил в цель. Сеня из семи — пять. А вот с охранниками случился конфуз. Оба выбили по три мишени. Хотя, может, это был и не конфуз вовсе, а простой расчет — стрелять лучше начальника не стоит.
Когда второй охранник отстрелялся, Сорокин зло бросил:
— Стрелять надо уметь. И жопу лизать тоже уметь надо.
Больше этих двух братьев-небратьев, проходивших за Сорокиным как минимум четыре года, в Березниках никто не видел. В следующие выходные с ним уже были два других молодых человека, с такими же фигурами, незапоминающимися лицами, и опять один — блондин, второй — брюнет.