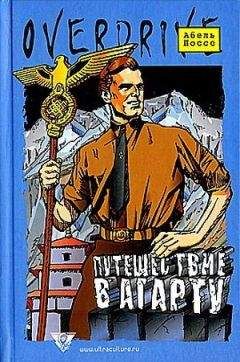Нет, американцы никак не причастны к пресловутому первородному греху. Однако же мы упорно стараемся превратить их в грешников, в падших существ, которых наши священники и епископы должны великодушно спасать. Мы подобны негодяю лекарю, делающему здорового больным, чтобы его вылечить и прославить себя.
Вот какая порча шла впереди нас. Оружия не требовалось. Довольно было приближения нашей болезни, и целые народы канули в небытие.
Нет, американцы никак не связаны с Адамом. Ни с Симом, Хамом и Яфетом. Только мы извлекли их из вечности и нарядили в хламиду грешников.
Мы посеяли недуг. Мы навсегда украли у них душевный покой.
Это и было моим «знаменитым секретом», который дошел до слуха императора Карла V. Секретом неизреченным, который, открой я его, привел бы меня на костер. Секретом для людей другой эпохи, не нынешней. Секретом бесполезным, как почти все, что исходит от меня.
Они, индейцы, просто жили, как вот эти коты, загадочно шныряющие по крышам монастыря Санта-Клара. Они рождаются, страдают, радуются, рождают потомство, желают, умирают. Так и идет — без шума и неожиданностей (кто изобрел слово «трагедия»?). Есть нечто глубоко истинное, достойное и великолепное в этих котах, которые мне напоминают индейцев Америки.
Неужто всегда будут варвары? Неужто всегда будут побеждать варвары? Неужто всегда, как говорят тараумара, путь человека по жизни будет всего лишь движением к праху? И все будет деградировать и идти к упадку?
Мы отчалили из Веракруса 10 апреля 1537 года.
НЕЖДАННЫЕ ПРИЗНАКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПОВТОРЯЮТСЯ. Добро пожаловать! Когда приходит мысль о театральном Зале и о том, что мы должны быть готовы произнести приветствие и удалиться, в тебе вновь пробуждаются жизненные силы, волнующая воля оставаться по сю сторону, не проходить еще через тот Портал в пустыне, который так интересовал Сьесу де Леона.
Мочусь я обильно, и притом ощущаю почти жгучий зуд. В последнюю неделю снова было кровотечение. Я об этом доктору Гранадо не говорю — он сразу же начал бы толковать о «чрезмерной витальности» и порекомендовал бы успокоиться, поставить пиявки или даже сделать кровопускание.
Наука идет вперед неслыханно быстро — за последние три десятилетия о теле человека, о жизни, о нашем мире и о Вселенной узнали больше, чем с рождения Христа. Примечательны труды Мигеля Сервета, который выяснил, каким образом кровь кружит по телу. Жестокие кальвинисты приговорили его к сожжению на костре, как будто возможно противоречие между учением Божьим и реальностью мира и созданных им существ!
Редко бывает, чтобы утром я не проснулся от болезненной эрекции члена. В моих снах он превращается в чудесное оружие, проявляя эту упомянутую почти юношескую витальность. И не раз, когда донья Эуфросия поднимается с чашкой шоколада — мой завтрак, — этот молодчик не хочет разоружиться, и я должен прятать его, как прячет убийца свой преступный кинжал.
Живу по-стариковски, но сны у меня двадцатилетнего. Бывают люди, застрявшие в своей молодости. Другие уже рождаются старыми, например Овьедо, хозяин нашей истории.
Один поэт из друзей Брадомина, слепой, с фамилией не то португальца, не то марана, самый остроумный из всех них, говорит, что слово «старый» придумано недавно. Да нашествия мавров люди в Испании умирали на войне, на поединках, состязаясь в храбрости, от несчастного случая или от руки разъяренного рогоносца. Если кто-то доживал до седин и преклонных лет, его называли не «старым», а удачливым или мудрым. Неприятного сословия стариков не существовало. Слепой поэт утверждает, что мавры принесли страсть к числам и с той поры, к сожалению, всё считают десятками, включая человеческую жизнь. В конце концов мы стали верить цифрам, а не истине. И, возвращаясь к моему примеру, — Овьедо, который уже в двадцать лет был мокрой курицей и был способен держать в руках только саламанкское перо, следовало считать «молодым», а Кортеса или Писарро в Мексике и в Перу, в апогее их славы, коль судить по цифрам, называть «старыми».
Но вернемся к прежней теме, мой пенис подобен дверному молотку из толедской стали того сорта, который все выдержит — пожар в доме, разгром, учиненный маврами, лисабонское землетрясение. Он несокрушим. Дом разрушен, а он все так же сверкает на солнце. Мой член послушен телу и снам, а не моей воле или воспитанию родовитого кабальеро. Много раз он забегал вперед и возвращал меня к жизни. Надо его слушаться, он знает, что делает.
В последнюю неделю он, кажется, расположен отвлечь меня от чрезмерных литературных занятий — воспоминаний, которым я предаюсь. Слишком уж часто напоминает о своем существовании. Я даже изрядно похудел, он явно отнимает у меня много сил.
Я надел парадный черный костюм (бархатный, тот самый, в котором я был на аутодафе). Нанял карету у братьев Фуэнтес, ту самую, в которой меня несколько раз возили в бордель в Кармону, и приказал ехать в монастырь Санта-Клара. Перед Лусиндой я предстал в наилучшем виде, словно бы заглянул мимоходом по дороге на важное заседание Верховного суда.
Я преподнес ей букет роз и сказал, что заехал лишь поблагодарить за ее посещение моего дома в трудную минуту.
Я был совершенно спокоен в отличие от прежних встреч с ней. Разговаривал и вел себя пристойно — держась естественной дистанции пожилого человека, намеренного восстановить и должным образом упрочить то, что не может быть иначе как дружбой.
— Хотя ты, наверно, этого не знала, мне было в те дни очень плохо. Было стыдно самого себя. Твой приход меня успокоил, и ты не представляешь, сколько страниц я исписал с тех пор.
— Ваша милость льстите мне, я могу возгордиться!
Поскольку я знал, что по четвергам она навещает своего дядю, я пригласил ее перед этим визитом отужинать у меня.
На следующее утро я сам отправился на Ареналь, чтобы выбрать креветки и другие дары моря и поискать сладкий нежный цикорий, который, говорят, привозят из Франции.
На прилавках для рыбаков (следовало бы сказать «для мух») надо смотреть в оба, потому что мошенничают они беспардонно. Уверяют, будто барка «только-только прибыла из Сан-Лукара», а на самом-то деле приносят рыбу, которую освежили в Гвадалквивире, и она, не пройдет и четверти часа, будет вонять, как мавр, привязанный к нории[83]. Они без труда обманывают доверчивых фламандок, которых разбогатевшие в Индиях дельцы нанимают в кухарки, как в благородных семьях.
Меня там знают сызмальства, и, я слыхал, некоторые из этих плутов называют меня «горе-моряк», прозвище, заслуженное моими известными неудачами на море.
Одному из них, который отрицал, что его морские раки несвежие, я сказал: «Ты их видел самое большее на берегу, а я с ними встречался под водой…» И на том спор прекратился.
Я истратил столько, сколько у меня уходит на месяц обычного питания: раки-отшельники, самые крупные креветки, уже упомянутые морские раки, несколько крупных устриц для украшения. Баклажаны с чесноком, цикорий из Франции, грибы к вину из Аланиса[84] (я приказал доставить большую бутыль). В мясном ряду я купил бараний окорок средних размеров, который донья Эуфросия начинит стручковым перцем и зеленью и отдаст испечь в пекарне еврея на Калье-де-ла-Вида. Нашел также хорошие телячьи почки и мозги, чтобы пожарить их на закуску.
В общем, немного — нынешняя молодежь ест мало, и если ест, то самую нежную пищу. Такова мода.
Двадцать раз я поднимался и спускался по лестнице и наконец, вопреки протестам доньи Эуфросии, поскольку вечер ожидался теплый, решил, чтобы стол накрыли на крыше, убрав оттуда всякий хлам и два треснувших цветочных горшка. В конце концов, наилучшее произведение искусства, которым я могу украсить мой дом, это вид на Хиральду. (Не так уж мало для человека, выросшего во дворце с доморощенными деревянными скульптурами.)
Я сам очистил золой и песком серебряные канделябры, единственную ценность, оставшуюся после всех бед и конфискаций, когда я вернулся из Рио-де-ла-Платы узником.
Это был очень приятный час тишины после моих громких споров с упрямой Эуфросией.
Лусинда сняла мантилью (она всегда ходит в мантилье, как всякая порядочная дама или девица), и донья Эуфросия провела ее на крышу. Сумерки были прекрасные, какие может дарить только Севилья, когда захочет.
Воздух наполнился ароматом молодой женщины. Запахом ее волос, вымытых в воде с настоем лаванды и высушенных на полуденном солнце.
Стол был действительно на славу — украшен всеми остатками былой роскоши моего дома. Кроме канделябров еще были приборы — ножи и вилки с ручками из слоновой кости, остатки моего имущества аделантадо. Чтобы снять напряжение, которое могло бы возникнуть у Лусинды, когда придется употребить эти инструменты, я поспешил взять руками устрицы, сбрызнутые лимонным соком.