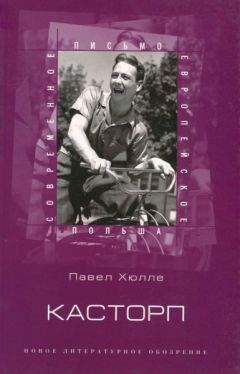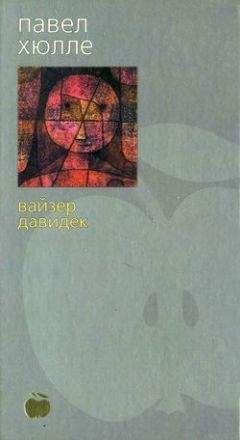По-настоящему его заботило только одно: что он не выполнил всех рекомендаций Анкевица. Доктор настаивал на интенсивном движении на свежем воздухе, имея в виду занятия спортом, — лесные походы в «Большую звезду» или прогулки по молу лишь отчасти их заменяли. Впрочем, как-то Касторп выбрался в гребной клуб и в качестве одного из шестерых членов команды совершил нехитрое путешествие по Мотлаве, от Лабазного острова до Польского мыса и обратно. Натерев на ладонях мозоли, обозлившись на донимавших его своими замечаниями других гребцов и горластого рулевого, он поклялся себе, что, если и займется каким-нибудь видом спорта, там и в помине не будет духа коллективизма. Выбор он откладывал со дня на день, а между тем в середине мая у него закончились соли Эрленмейера и следовало бы узнать у доктора, конец ли это лечения, и если нет — попросить новый рецепт. Так или иначе, ему бы пришлось ответить на вопрос, как обстоит дело с интенсивным движением на воздухе. Короче, он не пошел к врачу, придумав себе оправдание: «Я ведь прекрасно себя чувствую, кто б на моем месте стал думать о лекарствах?» И, вероятно, окончательно пренебрег бы предписанием доктора Анкевица, когда б не очередная случайность, произошедшая, разумеется, в Сопоте.
Однажды, полежав в шезлонге, Касторп отправился в Южный парк, где начиналось строительство новых купален. Неподалеку он обнаружил неизвестную ему прежде рыбацкую таверну, которую держал некий Павлоский, чех из Микулова. Усевшись в садике, он заказал картофельный суп с лососем, судака в укропном соусе, графинчик белого мадьярского вина, а к кофе — торт с кремом из каймака и рюмку портвейна. И пришел в превосходное настроение, поскольку давно не едал так вкусно и так недорого. Закурив «Марию Манчини», он подозвал хозяина и завязал разговор о грядущем курортном сезоне, прислушиваясь к забавному акценту, в котором австрийская мягкость соперничала с чешской, типично славянской напевностью. Когда выяснилось, что Касторп — студент, чех, извинившись, скрылся в подсобном помещении. И тут, повернувшись лицом к морю, Ганс Касторп увидел на аллее парка трех граций. Девушки ехали гуськом на бициклетах. Яркие платья и ленты на шляпах развевались так же, как — годом раньше — на палубе «Русалки», где он обратил на этих девушек внимание. Прелестная сама по себе картинка заставила его задуматься о загадочных свойствах времени: разделенные долгими месяцами события повстречались, будто в синематографе, создавая обманчивое, но убедительное впечатление непрерывности.
— Это барышни Ландау, — сказал хозяин, вернувшийся с подносом, на котором стояла рюмка водки. — А это от фирмы. — Он поставил перед Касторпом «бехеровку». — Они с отцом убежали сюда с Украины, после погрома, лет пять назад. Можете себе представить? Их мать, госпожу Ландау, застрелил на улице казак.
Ганс Касторп — чего с ним никогда не бывало — залпом выпил настойку, расплатился, поблагодарил хозяина и торопливо зашагал на вокзал; меньше чем через час он уже входил в велосипедный магазин Руди Вольфа на Главной улице Вжеща.
— Я хочу купить мужской бициклет, — сказал он, — и к нему насос, комплект запасных шин, заплатки и клей. А также, если есть, прищепки для брюк — английские булавки я считаю непрактичными.
— Да, конечно, прошу вас. А какую модель вы предпочитаете? — поинтересовался приказчик.
Поскольку Ганс Касторп в марках велосипедов не разбирался, состоялась демонстрация моделей.
Определенными достоинствами, главным образом благодаря современной конструкции тормозов, обладал английский «Ровер». Однако он был тяжеловат, да и седло казалось не слишком удобным. К тому же, из-за отличия английской метрической системы от европейской, некоторые болты — если б понадобилось их менять — пришлось бы заказывать в Британии. Таких проблем не могло возникнуть с французским «Пежо». Победитель прошлогоднего Tour de France, предлагавшийся аж в трех расцветках, привлекал рулем особой конструкции и оригинальным звонком. Зато производившаяся в Гаггенау «Бадения» могла служить образцом немецкой солидности: у велосипедов этой марки по сравнению с прочими было меньше всего изъянов и, соответственно, к ним реже предъявлялись рекламации. «Марс-Редер» с Нюрнбергской фабрики тоже выглядел весьма соблазнительно. Последняя модель — «Вандерер» с фабрики в Хемнице — понравилась Касторпу больше других, и именно такой велосипед он выбрал, однако не из-за его достоинств, со знанием дела перечисленных приказчиком. Пока тот, демонстрируя модели, давал им краткие характеристики, наш Практик разглядывал раскрашенный от руки плакат, висевший над кассой. На фоне пологих холмов очаровательная девушка в голубой шляпе вела за руль велосипед, держа в свободной руке букет полевых цветов. Каждому было ясно: девушка нарвала цветы на ближайшем лугу и ждет юношу, который вот-вот подъедет на идентичном, только с мужской рамой, бициклете марки «Вандерер».
Таким образом, благодаря трем барышням Ландау и удивительному свойству времени, которое в садике при таверне подало нашему герою таинственный знак, а также благодаря доктору Анкевицу и, наконец, рекламному плакату Ганс Касторп подкатил к дому на Каштановой на великолепном синем «Вандерере». На багажнике в картонной коробке лежали запасные камеры, заплатки, клапаны, клей и две элегантные прищепки для брюк; насос, крепящийся к раме специальным зажимом, был, как и руль, хромирован.
— Теперь-то уж на вас трамваи, не скажу худого слова, ни пфеннига не заработают! — воскликнула госпожа Хильдегарда Вибе, вручая Касторпу ключ от чулана во флигеле.
Она не сильно ошиблась. Даже в дождливые дни, если только не свирепствовал ветер, наш Практик, укрывшись под лоденовой пелериной, с небольшим финским рюкзаком на спине, мчался по Главной улице, а затем по Большой аллее до аллеи Госслера, где ему приходилось прилагать несколько больше усилий, ибо эта улица — как мы уже не раз отмечали — вела в гору. Пелерину, финский рюкзак с изысканным плетеным каркасом, а также очки-консервы, замшевые перчатки — когда день выдавался холодный — и застегивавшийся под подбородком шлем, новые брюки-гольф и подобранные в цвет высокие носки Ганс Касторп приобрел в торговом доме Штернфельдов на углу Вжещанского рынка и Ясековой долины. Впервые после приезда в Гданьск он потратил больше денег, чем обычно расходовал за месяц. Однако это его нисколько не огорчило. Долгов у него не было, а вынужденная бережливость ничуть не противоречила новому образу жизни. Из завсегдатая курорта он превратился в настоящего путешественника, и эта почти не составившая труда перемена настолько его устраивала, что он с присущим юности оптимизмом видел только хорошие ее стороны. Да и были ли плохие? Мы и днем с огнем вряд ли бы их отыскали даже при обостренном критицизме или врожденной неприязни к велосипедистам.
Касторп вновь наслаждался необычайной прелестью ранних утренних часов. Город, еще не совсем проснувшийся, но уже сверкающий на солнце, сулил новые сюрпризы, раз за разом открывая неизвестные прежде калитки, тайные проходы и лазейки. Внезапно, будто вернувшись в сады детства — тот, что раскинулся перед домом деда на Эспланаде, и тот, который окружал дом Тинапелей у Гарвестехудской дороги, — Касторп стал ощущать острые запахи весны, обещавшие, что лето не за горами. Перед занятиями он заезжал на цветущие луга Заспы, в долину Стшижи, в парк на Кузьничках или, намеренно выбрав окольный путь, катил вдоль границ городской застройки, упорно одолевая подъемы, чтобы на взгорке вместо трамвайных звонков услышать пение петухов и жаворонков. Во второй половине дня он отправлялся через центр в Старый, Главный или Нижний город. Ему нравилось, остановившись над каналом, смотреть, как плывут по зеленой воде облака. Кружа по закоулкам Лабазного острова, Оловянки, Старой и Новой Шотландии, Оруни, Бжезна, Заросляка, он все лучше познавал диковинную структуру города, состоящую из столь разнообразных и необычных элементов, что, пожалуй, только человек с душой поэта мог бы увидеть их единство. Со временем, однако, — хотя он не был и ни в малейшей степени не ощущал себя поэтом — это единство, или, скорее, целостность Касторп начал постигать интуитивно: интуиция убедила его в существовании нескольких основных слоев, совмещающихся как во времени, так и в пространстве.
Кашубы и поляки, различить которых по языку он, впрочем, не мог, представлялись ему серым слоем земли, давно прикрытым брусчаткой и выступающим на поверхность лишь там, где сохранились старинные постройки: пригородный трактир, портовые склады, убогий домик в низине, иногда лавчонка в предместье, куда не доходили ни городской водопровод, ни трамвай, ни газовое освещение. На этой болотистой, вязкой почве возвышались кирпичные стены Ганзы, былая гордость купеческих династий и рыцарей; успешная торговля зерном определила облик строений: лабазов, домов, ворот и костелов. Время голландских фортов и амстердамских аттиков наступило гораздо позже, хотя в языке следов не оставило, если не считать разве что надписей на кладбищенских плитах. Евреи, как и везде, являли собой пестрое сборище, среди которого выделялись — чаще всего одеждой — пришельцы из России и Галиции; здесь, в отличие от Гамбурга или Франкфурта, их было не так уж много и своего обособленного района они не имели. Витавший надо всем этим дух прошлого преграждал дорогу будущему: стоявший некогда на главном торговом пути город теперь жил словно бы на обочине, без крупных инвестиций, лишенный размаха и воображения, которые придавали Гамбургу или Щтетину современный вид и дарили мощный жизненный импульс. Только военные гарнизоны — пехота, гусары, моряки и артиллеристы — создавали, быть может иллюзорное, представление о значимости города. Порт, верфи и несколько окрестных заводов были недостаточным источником энергии; впрочем, город — со своими холмами на юге, заливом на севере и огромной чашей долины Вислы на востоке под клубящимися тучами, безустанно ползущими с моря, — обладал бесспорным очарованием.