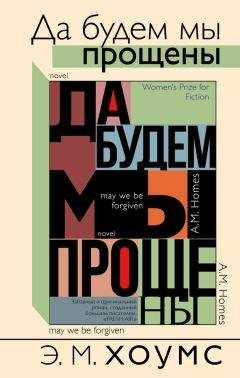Что-то в ее голосе заставляет меня пожалеть, что я им звонил, и я рву их листовку на тысячу клочков. А женщина продолжает говорить:
– Я затем перезвонила, что, если у вас в доме нет еды, я могла бы что-то по дороге забросить.
– Спасибо, все у меня нормально.
Мне хочется закончить разговор.
– Вы уверены?
– Просто убежден.
– Потому что, знаете, для людей со средствами есть другие варианты. Различные диетические планы предлагаются такими службами, как «Зоун», «Хоум бистро», «Смарт фуд», «Карб каншиоус». Если сегодня вам ничего не надо, давайте я попрошу, чтобы вам завтра позвонили и договорились?
Звонок в дверь. Пицца!
Я вешаю трубку, не дожидаясь конца разговора, и с ходунком иду к двери. Мы с Тесси выполняем странный танец, связанный с теннисным шариком на опоре ходунка и нашим состязанием, кто придет к двери первый.
* * *
Пицца похожа на соленый картон, украшенный плавленой резиной. Я ее съедаю целиком.
В первый же вечер дома звонит психиатр, ведущий Джорджа.
– Прошу прощения, что не проявлялся, – говорит он.
– Да и я тоже. – Я уже набрал воздуху рассказать про больницу, про человека, который умер, про все, что было, – и останавливаюсь. Включается сигнал личной тревоги. – Тут меня отвлекло небольшое событие.
– Надеюсь, приятное, – говорит он.
– Не свадьба, – отвечаю я, не добавляя больше ни слова.
– Я хотел с вами поговорить о вашей семье.
– Я был в больнице.
Вопреки моему нежеланию это говорить, из меня эта фраза вырвалась, как из пролома, из сорванного крана, на вдохе, комом слов.
– Простите? – переспросил он, не расслышав.
Я молчу. Он продолжает:
– Как вы помните, мы говорили о необходимости более полно осветить историю семьи. Я хотел бы вам послать несколько анкет для заполнения. Там запрашивается информация о ваших родственниках. Кто где родился, как жил, болезни, госпитализации, тюремное заключение, смерть.
– Хорошо, – говорю я.
– Вы не надумали приехать к нам с кем-нибудь из более старших родственников? Нам было бы очень важно узнать больше.
Вопрос действует как будильник для совести.
– Мне бы тоже хотелось знать больше, – говорю я доктору. – Присылайте анкеты, я займусь.
– Ну и чудесно, – радуется он. – Когда закончим этот процесс, подумаем о второй стадии – пригласить вас сюда на день-два. Но сейчас еще об этом рано думать.
– Есть ли известия относительно его юридического статуса?
– Это не моя компетенция. Позвоните координатору, может быть, он сможет вам ответить.
Разговор взбадривает меня, оставляя странный прилив энергии. Положив трубку, я думаю о матери и понимаю, что уже почти месяц не навещал ее.
Звоню на пост ее отделения и спрашиваю, можно ли с ней поговорить.
– Сейчас она не может подойти, – говорит сестра.
– Что значит – не может подойти? Она разве не должна находиться у себя в комнате? Скоро ведь уже спать ложиться.
– Она на уроке танцев.
Не могу поверить.
– Во-первых, сейчас уже половина десятого, а во-вторых, моя мать лежачая!
– Это уже не так.
– Правда?
Я неподдельно удивлен.
– Да. Комбинация нескольких факторов. Во-первых, у нас теперь новый психотерапевт, и ваша мать в нее просто влюбилась. Мы ее пересадили в кресло-коляску, и она ездит по коридору. Во-вторых, тут у нас один молодой врач проводит некоторое исследование, и вашу мать выбрали для участия в нем. Поэтому ей сменили состав препаратов, и она хотя и не то чтобы летает, но дела намного лучше.
– Она ходит?
– Ползает, – ответила сестра с явной радостью. – Ползает по полу всюду, где хочет, и ей это нравится. Мы ходим осторожно, чтобы не наступить… и выдали ей на колени и на локти хоккейные щитки моего сына. Прислать вам фотографию?
Она присылает мне по почте снимок. На нем, естественно, мама. Она ползает по полу в коридоре, как краб по морскому дну.
Я звоню Лилиан, младшей сестре матери, и она ворчливо дает мне разрешение ее навестить.
– Тебе что-нибудь привезти?
– Борща из того заведения на Второй авеню.
Я ей не говорю, что мне до Второй авеню ехать час с четвертью.
– Сколько тебе его привезти?
– Давай большую порцию, – говорит она. – А лучше давай две – суну одну в морозильник.
– Еще что-нибудь?
– Раз уж собрался, так привези что-нибудь, что на тебя смотрит.
Мама перезванивает.
– Женщина из приемной помогла мне набрать номер. Она сказала, что ты меня ищешь.
– Я просто так позвонил, и она мне сказала, что ты на уроке танцев. Все хорошо у тебя?
– Все прекрасно, я снова начинаю двигаться.
– Я собрался к Лилиан заехать, – говорю я и не успеваю закончить, как она перебивает:
– Она заболела?
Мамин голос полон заботы.
– Просто хочу ее навестить. Есть пара вопросов.
– Ага, у меня тоже к ней пара вопросов есть. – Мама щелчком возвращается в обычное состояние. – Где мои жемчужные серьги? И браслет к ним, что мне от твоей бабушки достался? Лилиан взяла их у меня на вечеринку, а потом что – решила сделать вид, будто так и было?
– Я могу ее об этом спросить, – предлагаю я.
– А ты не спрашивай, – советует мама. – Ты просто сделай, как она: залезь в шкатулку и возьми. А ей скажи потом, когда уже дома будешь.
– Посмотрю, что смогу выяснить.
– Когда будешь смотреть, проверь заодно ожерельице с рубином в середине и брильянтиками вокруг. Не помню, то ли я его потеряла, то ли твой папочка его прихватил, когда шлялся на ипподром.
– Папа был способен на такое?
– На такое все мужчины способны, – отвечает она.
Не зная, как у меня насчет вождения после инсульта, я вызываю водителя, который возил нас на похороны Джейн, и спрашиваю, согласен ли он меня отвезти к Лилиан, подождать и отвезти обратно. Он мне объясняет, что называется почасовой работой: семьдесят пять в час, не менее четырех часов. Я соглашаюсь. Он заезжает за мной в указанное время, мы заглядываем в магазин на Второй авеню, который теперь уже не на Второй авеню, и берем курс к Лилиан на Лонг-Айленд. Я прошу водителя остановиться, не доезжая до самого дома, чтобы не обсуждать с Лилиан мои обстоятельства.
Я медленно иду к дому, и перед мысленным взором мелькают летние дни рождения, фейерверки на Четвертое июля, пикники. Дома на этой улице были когда-то однообразными, кирпичные разноуровневые, все на одно лицо, и отличались только тем, какого года стоял на подъездной дорожке «понтиак» или «бьюик». Сейчас они превратились в ублюдочные варианты себя прежних. Какие-то достроились, другие перестроились, будто на них выросли опухоли размером с комнату, третьи снесли, освобождая место для постмодернистских стероидных чудовищ. Двухуровневые гостиные и парадные салоны пришли на смену излюбленным эркерам, которые придавали каждому дому пятидесятых-шестидесятых неповторимое сходство с аквариумом. Я выгружаю продукты на кухонный стол Лилиан, гадая, может ли вот эта древняя, почти уже крошащаяся клеенка быть той самой, что лежала тут тридцать лет назад? Лилиан с мышиной быстротой прячет все принесенное. Она крошечная, футов четырех ростом, и быстро усыхает.
– Что с тобой? – говорит она. – Ты весь побитый.
– В аварию попал. – Не могу заставить себя рассказать ей про инсульт: у меня от этого ощущение, будто я очень старый. – Цветы красивые, – киваю я в сторону вазы на столе.
– Сто лет тут стоят, – отвечает она. – Пластмассовые, я их раз в неделю мою с «Айвори». Это оставь себе. – Она возвращает мне контейнер с кашей. – Я такое есть не буду. И это тоже. Мне мака нельзя. Никаких тебе семян, орешков, ядрышек. Ни попкорна в кино, ни фисташек. Кишки не принимают.
Она говорит это так, что меня подмывает пошутить на тему «зачем тогда жить», но если учесть мой недавний опыт насчет того, как ненадежна и шатка жизнь, так вроде и шутить не о чем.
– Стыдно должно быть твоему брату, – говорит она.
– Да.
– А ему стыдно?
– Нет, не думаю.
Мы сидим за ее обеденным столом. Она мне заваривает чай, «липтон», крепкий и очень хороший.
– Сахар будешь или тебе сахарозаменитель?
– Сахар – это хорошо.
Он давно уже в сахарнице, слежался комками, сплавился под многими поколениями мокрых ложек, праздничный сахар, грязный сахар – старый сахар. Лилиан приносит из кухни предмет – синий металл с клеймом «Датское масляное печенье», и я готов поклясться, что эта жестянка уже много поколений в семье (когда евреи выходили из Египта, они несли с собой жестянки с датским масляным печеньем), если бы не знал, что это не так. И жестянки, в которых, насколько мне известно, никогда не было датского масляного печенья, ходили из дома в дом, но всегда возвращались к Лилиан. В каждом роду и племени есть Хранительница жестянки, чья работа – занудливо буровить: «Не забудь отдать мне жестянку», или «Что значит – забыла? Больше не получишь. Я без жестянки не пеку. Какой смысл? Печенье развалится».