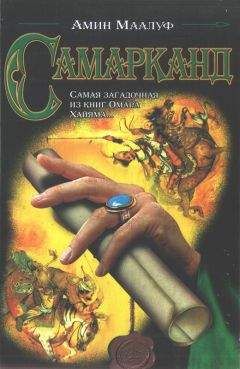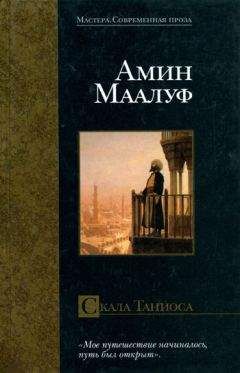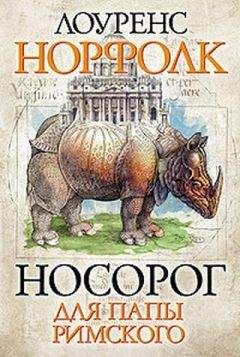На следующий день — это была пятница — я открыл глаза и увидел своего друга: он разглядывал меня, склонившись надо мной. Мне показалось, что он уже не один час провел в таком положении.
— Еще немного, и ты бы пропустил полдневную молитву.
Это не было преувеличением, солнце стояло довольно высоко.
— Когда ты вчера пришел, вид у тебя был такой, как будто ты убил своего отца. Так у нас говорят.
Вместо улыбки мое лицо исказила гримаса. Я рассказал ему все, как было.
— Зря ты ему это сказал. Но и он не прав, и гораздо больше, чем ты, ведь он выдает дочь за палача. Позволишь ли ты совершиться преступлению, чтобы исправить собственную ошибку?
Именно это я и собирался по-видимому сделать, но когда Харун сказал об этом вслух, я осознал, что не в силах так поступить.
— Я могу поговорить с Кхали, он найдет слова, чтобы убедить отца.
— Открой глаза, убеждать нужно не твоего отца.
— Не может же сама Мариам отказаться от свадьбы! Осмелься она издать хоть звук, он все кости ей переломает!
— Остается жених!
Я все никак не мог взять в толк, о чем он. Видно, еще не совсем проснулся.
— Зеруали?
— Ну да, он самый, да не смотри ты на меня такими глазами. Вставай, пошли!
По пути он разъяснил мне суть задуманной им хитрости. Постучались мы не в дверь богатого разбойника, а в дверь старика, которому никакого дела не было до чьей-то свадьбы. И тем не менее он один мог ее расстроить.
Астагфируллах сам открыл нам дверь. До тех пор я никогда не видел его без тюрбана. Он казался чуть ли не нагим и в два раза меньше. Он уже недели две не показывался на люди, поскольку у него болел бок. По его собственному признанию, ему было семьдесят девять лет, и он считал, что достаточно пожил, хотя «одному Господу было решать, кому сколько отпущено».
Визит двух подростков с огорченными физиономиями был для него полной неожиданностью.
— Надеюсь, вы не станете меня расстраивать.
Харун начал рассказ. Я ему не мешал. Он все это затеял, так пусть доводит дело до конца.
— Новость плохая, но речь, слава Богу, не о кончине. А о свадьбе, противной Божьему установлению. Разве это не плохая новость?
— Кто выходит замуж?
— Сестра Хасана, Мариам…
— Дочь Румийи?
— Какая разница, кто ее мать. Весовщик-то мусульманин, значит, и его дочь мусульманка.
Шейх с нежностью взглянул на Харуна.
— Кто ты? Я тебя не знаю.
— Я Харун, сын Аббаса, разносчика.
— Продолжай. Мне по нраву твои слова.
Ободренный, Проныра объяснил суть дела. Он не стал задерживаться на печальной участи жен Зеруали, поскольку знал: этот довод вряд ли тронет Астагфируллаха. Но уж зато так расписал непотребство жениха! И то, что он сожительствует с бывшими женами, и его прошлые деяния, и то, как разбойничал в те годы, когда сюда хлынули первые переселенцы из Андалузии, и как грабил жителей Рифа.
— Этого хватит, чтобы отправить человека в ад до скончания веков. Но есть ли у тебя доказательства? Кто свидетель?
Харун весь съежился:
— Мы с другом слишком юны, только что окончили школу, и наше слово мало что значит. Мы не очень-то разбираемся в жизни, и может, нас возмущает то, что в глазах других людей выглядит обычным явлением. Теперь, когда мы сказали все, что знали, облегчили свою совесть, дело за тобой, о досточтимый шейх, тебе решать, следует ли что-то предпринять.
Когда мы вышли на улицу, я с сомнением взглянул на Проныру. Он же выглядел совершенно уверенным в себе.
— Я сказал ему то, что думаю на самом деле. Мы сделали все, что было в наших силах. Остается ждать.
Однако его довольная физиономия говорила об ином.
— У меня такое впечатление, что ты торжествуешь. Я же не вижу причин для ликования, — заметил я.
— Может, Астагфируллах меня и не знал, но я-то знаю его давно. И полностью полагаюсь на его вредный характер.
На следующий день шейх ожил и, казалось, забыл про свои болячки. Его тюрбан замелькал на базаре, под портиками, а затем исчез на некоторое время в бане. В следующую пятницу в час наибольшего скопления народа он занял свое обычное место в самой посещаемой андалузскими переселенцами мечети и приступил к проповеди. С самым наивным видом завел речь о «примерной жизни весьма уважаемого всеми человека, которого я не стану называть» и поведал обо всем — бандитском прошлом, грабежах, разврате, да с такими подробностями, что собравшиеся в конце концов зашептали имя Зеруали, хотя оно ни разу не прозвучало в проповеди.
— Таковы те, кого в наши времена полного упадка нравов почитают верующие, кем они восхищаются! Таковы те, перед кем вы с гордостью распахиваете двери своих домов! Таковы те, кому вы приносите в жертву своих дочерей, словно доисламским божествам.
Целый день в городе только и было разговору, что об этой проповеди. Зеруали слово в слово донесли проповедь шейха. Он тут же послал за моим отцом, стал поносить Гранаду и всех андалузцев, брызгая слюной заявил, что речи не может быть ни о женитьбе, ни о шелкопряде, что требует возврата аванса и что весовщик и его близкие вскоре горько пожалеют о том, что произошло. Совершенно убитый, Мохаммед попытался оправдаться, но стража вышвырнула его за ворота дворца.
Часто, когда свадьба расстраивается вот так, в последнюю минуту, в атмосфере злобы, и особенно когда жених чувствует себя ущемленным, он пускает слух, что невеста не девственница или что она легкого нрава, дабы она уже не смогла выйти замуж. Я бы не удивился, если бы такой отъявленный негодяй, как Зеруали, да еще униженный в глазах всего города, поступил бы именно так.
Но никогда, даже в самых страшных снах мне не могло привидеться, что он задумал.
ГОД ЗАВЯЗАННОЙ УЗЛОМ БЫЛИНКИ
909 Хиджры (26 июня 1503 — 13 июня 1504)
Начало года было спокойным, заполненным усердными штудиями. В первый день нового года, выпавший на разгар лета, пришлось шлепать по грязи, поскольку только-только закончился Михражан и улицы были обильно политы водой. Я то и дело поскальзывался, шлепая по лужам, и при этом неотступно думал об отце, который ненавидел этот праздник с его обычаями.
Со времени нашей ссоры мы ни разу не виделись — да простит меня однажды Господь за содеянное! — но я регулярно справлялся о нем у Варды и Мариам. Их ответы почти всегда были тревожными. Разорившись на приданом, запутавшись в долгах, обманувшись в своих ожиданиях и лишившись поддержки близких, Мохаммед стал искать забвения в кабаках.
Однако в первые недели нового года он как будто стал медленно оправляться от всей этой истории с Зеруали. Ему даже удалось снять на вершине холма в шести милях от Феса заброшенную усадьбу с прекрасным видом на город и обширным земельным наделом, где он намеревался выращивать лучшие в королевстве виноград и фиги, думаю, в его планы входило также производство собственного вина, хотя холм и принадлежал Большой Мечети. Конечно, эти планы не могли идти ни в какое сравнение с разведением шелкопряда, но по крайней мере он не оказывался в зависимости от такого злодея, как Зеруали.
Последний в течение нескольких месяцев не давал о себе знать. Забыл ли о своем позоре тот, о ком ходила молва, будто он высекает на мраморе самое ничтожное из оскорблений? Мне случалось задумываться об этом, но лишь ненадолго, так как учеба поглощала все мое внимание.
Первую половину дня с полуночи до половины второго, согласно летнему расписанию, я проводил в учебных залах мечети Кайруанцев, а остаток дня — в самой знаменитой медресе Феса — Бу-Инания; в перерывах между занятиями я спал: немного на рассвете, немного днем. Бездействие было для меня невыносимым, отдых казался ненужным. Мне только-только исполнилось пятнадцать: тело было готово к испытаниям, ум к познанию мира, а сердце исполнено страсти к чтению.
Под руководством преподавателей мы изучали комментарии к Корану, традицию, завещанную нам Пророком, а затем вступали в дискуссию на ту или иную тему священных текстов, разговор часто перекидывался на медицину, географию, математику или поэзию, а иной раз и на философию с астрологией, несмотря на запрет, наложенный на эти дисциплины. Нам посчастливилось иметь в учителях людей, искушенных во всех областях знания. Чтобы отличаться от простых смертных, кое-кто из них наматывал тюрбан на островерхий колпак, похожий на те, что носят врачи в Риме, о чем я узнаю много лет спустя. У нас, студентов, были в ходу простые шапочки.
Несмотря на свои обширные познания, наши преподаватели были по большей части людьми приятными в общении, терпеливыми, внимательными к каждому. Порой они приглашали нас к себе домой, чтобы показать библиотеку. У одного было пять сотен книг, у другого тысяча, у третьего уже перевалило за три тысячи. Они поощряли нас совершенствовать каллиграфию, чтобы иметь возможность переписывать самые ценные труды, ибо так — по их утверждению — распространялось знание.