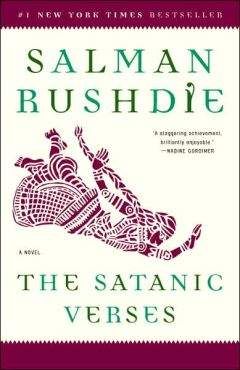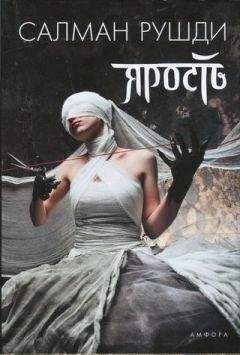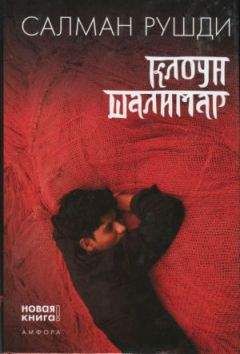Страдание напряжение усталость, глубоко врезавшиеся в лицо Пророка. Которое Хамза, как солдат на поле битвы, утешающий раненного товарища, заключает между своими ладонями.
— Мы не можем пойти на это ради тебя, племянник, — говорит он. — Подымайся на гору. Иди спрашивать Джабраила.
*
Джабраил: сновидец, чей угол зрения — иногда таковой камеры, а порою — зрителя. Взирая с позиции камеры, он вечно в движении, он ненавидит статичные кадры, поэтому плывёт на высотном кране, глядя вниз на фигуры попадающих в поле съёмки актёров; или же он надвигается, пока не встанет незримо меж ними, медленно поворачиваясь на своей пяте, чтобы добиться трёхсотшестидесятиградусной панорамы; или, быть может, он снимает из операторской тележки, следующей за идущими Ваалом и Абу Симбелом, или, крохотная скрытая камера, проникает в постельные тайны Гранди. Но обычно восседает он на Конусной горе, словно завсегдатай в бельэтаже{335}, и Джахилья — его серебристый экран. Он наблюдает и взвешивает действия, как заправский кинофанат, наслаждается битвами изменами моральными кризисами, но не хватает девочек для настоящего хита, мужик, и где эти чёртовы песни? Они могли бы развить эту ярмарочную сцену, может быть, с камео-ролью{336} для Пимпл Биллимории, трясущей своими знаменитыми титьками в шатре выступлений.
И тут вдруг Хамза говорит Махунду: «Иди спрашивать Джабраила», — и он, мечтатель, сновидец, чувствует, как сердце его тревожно вздрагивает: кого, меня? Я, полагают они, знаю здесь все ответы? Я тут сижу, смотрю эту картину, и теперь этот актёришка тычет в меня пальцем; да где это слыхано, чтобы чёртова аудитория определяла чёртов сюжет в теологическом кино?
Но преображение грёзы всегда изменяет форму; он, Джабраил, более не просто зритель, но главный герой, звезда. Со своей старой слабостью брать слишком много ролей: да-да, он играет не только архангела, но и его, бизнесмена, Посланника, Махунда, взбирающегося на гору. Нужна аккуратная резка, чтобы провернуть эту двойную роль, вдвоём им никак нельзя появляться в одном кадре, каждый должен обращаться к пустому месту, к воображаемой другой своей инкарнации, и полагаться на технологию, дабы та воссоздала недостающие образы с помощью ножниц и клейкой ленты или, что более экзотично, благодаря полёту фантазии и блуждающим маскам. Не путать — ха-ха — с полётами на блуждающих волшебных коврах.
Он понимал: его страх перед вторым, перед бизнесменом, — разве это не безумие? Архангел, дрожащий пред смертным. Это верно; но это тот страх, что ты испытываешь, оказавшись впервые на съёмочной площадке, где вот-вот появится какая-нибудь живая кинолегенда; ты думаешь: я опозорюсь, я засохну, я стану трупом; ты как ненормальный хочешь быть достойным. Тебя затягивает спутная струя его гения, он может выставить тебя в лучшем свете, настоящим лётчиком-асом, но ты поймёшь, что не ты тянешь свой вес, и, хуже того, он тоже это поймёт… Страх Джабраила, страх перед самим собой, созданным своими же снами, заставляет его сопротивляться приходу Махунда, пытаться отсрочить его, но тот всё приближается, неотвратимо, и архангел затаивает дыхание.
В этих снах тебя выталкивают на сцену, когда для тебя там нет дела, ты не знаешь, что говорить, не выучил ни строки, но полный зал народа глазеет, глазеет, — вот какое чувство. Или как в правдивой истории о белой актрисе, играющей чёрную женщину в Шекспире. Она вышла на сцену и лишь тогда осознала, что на ней до сих пор очки, упс, да ещё она забыла вычернить руки и потому не может снять свои стекляшки, двойной упс: на это похоже тоже. Махунд идёт ко мне за откровением, просить меня выбрать между монотеистической и генотеистической{337} альтернативами, но я — всего лишь какой-то идиотский актёр с бхенхудскими[85] кошмарами, яар, какого хера мне знать, что тебе ответить, на помощь. На помощь.
*
Чтобы добраться до Конусной горы из Джахильи, надо пройти сквозь тёмные ущелья, где песок — не белый, чистый песок, процеженный в древности телами морских огурцов{338}, но чёрный и мрачный, пьющий солнечный свет. Конни нависает над тобою, словно фантастическая бестия. Ты ползёшь по её хребтине. Оставив позади последние деревья, белоцветочные с толстыми млечными листьями, ты взбираешься средь валунов, которые становятся тем крупнее, чем выше ты поднимаешься, покуда не уподобятся огромным стенам и не закрывают солнце. Ящерицы синие, словно тени. Теперь ты на вершине, Джахилья позади тебя, безвидная пустыня впереди. Ты спускаешься в сторону пустыни и примерно через пятьсот футов достигаешь пещеры, достаточно высокой, чтобы стоять в полный рост; пол её покрыт удивительным песком-альбиносом. Пока ты поднимаешься, ты слышишь диких голубей, воркующих твоё имя, и даже камни приветствуют тебя на твоём языке, восклицая Махунд, Махунд. Когда ты достигаешь пещеры, ты утомлён, ты ложишься, ты засыпаешь.
*
Но, отдохнув, он погружается в сон другого вида: своего рода не-сон, состояние, которое он называет вниманием, — и он чувствует щемящую боль в кишках, будто что-то хочет родиться из него; и теперь Джабраил, парящий-в-небе-глядящий-вниз, чувствует замешательство: кто я, в этот миг ему начинает казаться, что архангел на самом деле внутри Пророка, я — боль в кишках, я — ангел, вытесняемый из пупка спящего, я появляюсь, Джабраил Фаришта, пока моё второе Я, Махунд, лежит внимающим, очарованным, я связан с ним — пупок в пупок — сияющей нитью света, не в силах сказать, кому из нас снится другой{339}. Мы перетекаем в обе стороны по пуповине.
Сегодня, кроме подавляющей активности Махунда, Джабраил чувствует его отчаяние: его сомнения. Как и то, что тот находится в большой нужде; но Джабраил так и не знает своей роли… Он внимает внимающему-который-также-вопрошающий. Махунд вопрошает: Им были явлены чудеса, но они не уверовали. Они видели, как ты приходишь ко мне на глазах всего города и открываешь мою грудь{340}; они видели, как ты омыл моё сердце в водах Земзема и вернул его в моё тело. Многие из них видели это, но всё равно они поклоняются камням. А когда ты явился ночью и перенёс меня к Иерусалиму, и я парил над святым градом, разве я, вернувшись, не описал всё в точности, как было, в точности до последней детали? Так, чтобы не оставалось сомнений в чуде; и всё же они пошли к Лат. Разве я не сделал уже всё возможное, чтобы облегчить им долю? Когда ты принёс меня прямо к Престолу и Аллах возложил на верных великое бремя сорока молитв в день. На обратном пути я встретил Моисея{341}, и он сказал: бремя слишком велико, возвращайся и проси меньшего. Четыре раза возвращался я, четыре раза говорил мне Моисей: ещё слишком много, иди обратно. Но на четвёртый раз Аллах уменьшил повинность до пяти молитв, и я отказался возвращаться{342}. Я стыдился просить ещё. В своей щедрости он просит пять вместо сорока, и всё равно они любят Манат, они хотят Уззу. Что я могу поделать? Что мне сказать им?
Джабраил безмолвствует, ответов нет, ради всего святого, бхаи, не спрашивай меня. Мука Махунда ужасна. Он вопрошает: могут ли они действительно быть ангелами? Лат, Манат, Узза… Могу я называть их ангельскими? Джабраил, есть ли у тебя сёстры? Это ли дочери Бога? И он ругает себя: О моя гордыня, я — высокомерный человек; не слабость ли это, не есть ли это лишь мечта о могуществе? Должен ли я предать себя ради места в совете? Это сознательность и мудрость — или же пустота и самолюбие? Я даже не знаю, был ли Гранди искренним. Знает ли он сам? Наверное, даже ему неведомо это. Я слаб, а он силён, предложение даёт ему множество путей уничтожить меня. Но я тоже могу извлечь из этого большую выгоду. Души города, мира, — они ведь стоят трёх ангелов? Настолько ли непреклонен Аллах, что не примет ещё троих, дабы спасти род человеческий? — Я ничего не знаю. — Должен ли Бог быть горд или смиренен, величествен или прост, уступчив или нет? Какова его суть? Какова — моя?
*
На полпути ко сну — или на полпути обратно к бодрствованию — Джабраил Фаришта часто преисполняется негодования из-за непоявления в его поле зрения Того, у кого должны быть ответы; Он никогда не показывается, тот, кто держался в стороне, когда я умирал, когда я нуждался нуждался в нём. Это всё он, Аллах Ишвара{343} Бог. Отсутствующий, как всегда, когда мы терзаемся и страдаем во имя Его.
Всевышняя Сущность держится в стороне; что повторяется — это сцена: заворожённый Пророк, вытеснение, нить света, а затем Джабраил в своей двойной роли, и взирающего-сверху-вниз, и глядящего-снизу-вверх. И оба они испуганы трансцендентностью{344} происходящего. Джабраил парализован присутствием Пророка, его величием, он думает: я не могу издать ни звука, чтобы не показаться ему чёртовым дураком. Совет Хамзы: никогда не показывай свой страх; архангелам нужен такой совет не меньше, чем водоносам. Архангел должен выглядеть бесстрастным, что подумает Пророк, если Бог Всевеликий невнятно замямлит из-за страха перед публикой?